Из цикла «Усть-Сысольские новеллы»
Александр Сергеевич Пушкин, возможно, и слыхом не слыхивал об уездном Усть-Сысольске. Однако он оказался связанным с ним одной невидимой, но прочной нитью. Об этом моя очередная новелла.
Перед поединком

Санкт-Петербург, набережная Мойки, кондитерская "Вольф и Беранже"
Пушкин сидел возле окна кондитерской «Вольф и Беранже» рядом с остывающим кофе и книгой, завернутой в серо-коричневую бумагу. Перед ним лежал бумажный лист, чернильница с пером, и он неспеша записывал: «Милостивая государыня Александра Осиповна. Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение...»
Вошел подполковник Данзас, и Пушкин, не отрываясь от писания, спросил:
– Ну что?
– Был во французском посольстве, – с деланым спокойствием ответил Данзас. –Геккерн стреляться не намерен. Вместо себя отправит Дантеса.
– Это понятно, Геккерн – посланник, драться не может. Пусть будет Дантес. Если дело это не закончится сегодня же, то в первый же раз, как я встречу Геккерна или его сына, я им плюну в физиономию. Продолжай.
– Выбранные тобой пистолеты выкупил. Изволишь посмотреть? – с этим словами подполковник раскрыл чемоданчик с дуэльным оружием.
Пушкин, продолжая писать, на них даже не взглянул. Тогда Данзас возобновил доклад таким тоном, будто перед ним находится старший по званию:
– Секундантом Дантеса будет виконт д’Аршиак, секретарь посольства. Условия дуэли такие: противники становятся на расстоянии двадцати шагов друг от друга, за пять шагов назад от двух барьеров…
– Довольно, – прервал Пушкин, запечатывая послание в конверт. Встав из-за стола, он надел тяжелую медвежью шубу, взял в руки письмо и сверток с книгой и вышел на скрипучий январский снег, где их ждала зимняя повозка.
Данзас дождался, когда Пушкин удобно устроится в санях, уселся рядом и приказал кучеру:
– Трогай! На Черную речку.
Когда возок достиг Дворцовой набережной, Пушкин повернулся к лицейскому приятелю, передал ему сверток с письмом и совершенно невозмутимо произнес:
– Если меня сегодня убьют, вели слуге отнести это письмо с книгой Александре Ишимовой. Адрес на конверте указан.
Подполковник взял то, что передал Пушкин, положил это на чемоданчик с дуэльными пистолетами, а про себя подумал: «Даже перед схваткой он думает об амурах. А я-то думал, что он после женитьбы остыл. Впрочем, не мое это дело, хотя интересно: кто такая эта Саша Ишимова?»
Он взял письмо и на всякий случай взглянул на адрес.
Дело Саши Ишимовой

Усть-Сысольск, дом купца Степана Григорьевича Суханова
Каменный двухэтажный дом купца второй гильдии Степана Григорьевича Суханова не имел адреса. Нет, не потому что резко отличался от других, сплошь деревянных и приземистых строений. Просто в Усть-Сысольске адреса еще не сложились. Улица, идущая от Троицкого собора, название уже имела – Покровская, в честь большого теплого храма, являющегося частью этого самого собора. Но нумеровать дома не имело смысла. Их пока было мало, а жилище Суханова знал каждый горожанин – будь то мещанин или купец.
В летний воскресный день 1820 года в этом доме происходило нечто необыкновенное, что собрало в большой зале чуть ли не всех именитых горожан. Самые почетные из них сидели на обитых зеленым войлоком гамбсовых стульях, образующих первый ряд. В рядах позади них располагались на обыкновенных грубоватых сиденьях те, кто занимали более скромное положение в обществе. А позади на скамейках размещался и вовсе простой люд – мещане, родственные Степану Григорьевичу, несколько солдат инвалидной команды и сухановские слуги. Все, тихо переговариваясь между собой, ждали, что же будет происходить в противоположной части зала, отгороженной расшитой узорами занавеской.
Когда большие напольные часы, стоявшие позади рядов, гулко пробили двенадцать, из-за занавески вышла высокая пятнадцатилетняя девица в легком белом платье в стиле ампир и собранными в «греческий узел» завитыми волосами на макушке, и бойко провозгласила:
– Итак, сегодня вы увидите представление «Девичник, или Филаткина свадьба». Сочинение господина Княжнина. Я прошу милостивых дам и господ соблюдать тишину и не смущать наших актеров. Еще прошу не судить их строго. Они робкие по природе, хотя и весьма способные.
Поклонившись, девица удалилась, а сидевший в середине первого ряда хозяин дома громко захлопал в ладони. Первым аплодисменты подхватил сидевший рядом седобородый с редкими седыми волосами купец, двоюродный брат Степана Григорьевича, Алексей Иванович Суханов. Личность легендарная, говорили, что именно он в свои молодые годы хитростью и колдовством добился превращения погоста на реке Сысоле в город Усть-Сысольск. За ними захлопала остальная публика. Последним, негромко вздохнув, ударил в ладони сидевший по левую руку от хозяина надворный советник Иосиф (себя он просил называть Осипом) Филиппович Ишимов – отец девицы, устроившей это представление.
Ишимов слыл глубоким законоведом и просвещенной личностью. Он полагал, что детей следует воспитывать не наказаниями да наставлениями, а, наоборот, большей свободой. А потому в обучение своей старшей дочери Сашеньки не вмешивался. И дикорастущее дитя показывала преотличнейшие результаты. В пансионе госпожи Миллер она изучила английский и французский языки, а в Екатерининском институте благородных девиц в Петербурге, куда ее отдали каких-то два года назад, сразу заняла место среди первых учениц.
Вот только выучиться там ей не довелось. И все от того, что папенька был беспокойного нрава. Он зарабатывал на хлеб с маслом хождением по делам, то есть защищал в суде тех, кто в защите нуждался. И так получилось, что в число таких нуждающихся попали пять тысяч крестьян, коими совершенно незаконно завладел помещик Ветлицкий. Дело могло бы быть выиграно, если бы Ветлицкий не оказался двоюродным братом всемогущего графа Алексея Андреевича Аракчеева. А тот приказал Ишимову в трехдневный срок собрать вещички и отправиться подальше от столицы великой империи. Этим далеким местом граф выбрал Усть-Сысольск.
Жили Ишимовы в уездном городе скудно, но весело. Их радостно и щедро принимали в лучших домах, коих было совсем немного. Сашенька учила детишек местных купцов и чиновников иностранным языкам, танцам и хорошим манерам. А затем о вовсе решилась на дивное дело – поставить театральный спектакль. И это в городе, где слово «театр» никогда не произносили!
Репетировали всю весну, показать надумали летом. Радушный Степан Григорьевич соизволил предоставить для такой затеи свой дом. И вот первые усть-сысольские зрители собрались на первую театральную постановку.
Заиграла в руках кухаркиного сына Егорки скрипка, Саша Ишимова раздвинула доморощенный занавес и перед публикой открылась любопытная картина: к задней стене был прикреплен большой бумажный лист с изображением деревенской избы, а перед ним сидел на простеньком стульчике с напомаженным лицом двенадцатилетний Васенька Самарин, сын городничего. Он изображал деревенского дурачка Филатку, за которого местный староста Парамон намерен выдать свою дочь Машу. Хотя она, вообще-то, замужем за солдатом Алексеем, но тот вроде бы геройски погиб в сражении с Наполеоном. От неудачного замужества Машу спасает барин – отставной полковник Модест. Он велит переодеть в Машино свадебное платье дурочку Федору, ее лицо закрывают покрывалом и в таком виде приводят к Парамону и его жене Соломониде. Родители благословляют дурачка и дурочку на брак, их женят, а когда правда открывается, полковник появляется вместе с чудом выжившим в бою Алексеем.
Алексея сыграл Павлик – младший брат Саши Ишимовой. Сама же она, успев в соседней комнате переодеться в крестьянское платье, исполнила роль Соломониды. Единственным взрослым среди ребятни на импровизированной сцене оказался сын хозяина дома, великорослый усатый красавец Алексей Степанович Суханов. Пока шли репетиции, у Сашеньки при виде веселого купчика с каждым днем все более учащенно билось сердце. Тем более, что в отличие от детишек, он играл совсем неплохо, и Ишимова пару раз обмолвилась, что ему имеет смысл поступать на сцену. Впрочем, и Васенька Самарин хоть изображал Филатку не совсем естественно, но всегда смешно. Особенно, когда говорил всякие забавные фразочки, типа «таво вона как оно».
Все действо завершилось еще до того, как напольные часы успели пробить час дня. Саша в наряде крестьянки задернула занавес, и неизбалованная публика дружно зааплодировала. Тот факт, что Егорка играл на скрипке скверно, а ребятня еще более скверно пыталась петь – как-никак «Филаткина свадьба» была задумана автором, как комическая опера – особого значения не имел.
Неопытные лицедеи во главе с Ишимовой вышли из-за занавески и, взявшись за руки, как их учила Сашенька, поклонились. Они чувствовали себя героями. Дальнейшее действо продолжилось в столовой на первом этаже, где уже был накрыт воскресный стол для гостей.
Герои застолья
Гости собрались за массивным, имеющим продолговатую овальную форму, столом, накрытым белой скатертью. Среди многочисленных яств несколько затерялись соленые грибочки, квашеная капусточка, заморские маслины, а также пирожки и разного рода сладости, чья очередь придет в самом конце. А возвышались над кулинарным великолепием два пузатых, начищенных до зеркального блеска самовара.
На почетном месте, по левую руку от хозяина дома, как виновницу торжества, усадили успевшую вернуть былое ампирское обличие Сашу Ишимову. По правую, как положено, уселся Алексей Степанович Суханов – тоже в какой-то мере причастный к сегодняшнему мероприятию. Он уже снял одолженный у городничего офицерский мундир, и чувствовал себя вполне в своей тарелке одетый в простую косоворотку.
Самым юным артистам нашлось место на другом конце стола. Отец и мать Сашеньки также оказались чуть в отдалении от дочери, но это их не смущало. Они втихаря гордились тем, что их дитя пребывает в центре внимания высшего общества Усть-Сысольска, но при этом надеялись, что про нее скоро забудут.
Пока слуги разносили первые блюда – уху из разных пород рыб с добавлением потрохов и, по желанию, щи из свежей капусты с разными сортами мяса и курицы – гости расспрашивали Сашу, как ей удалось младшего братика и местных ребятишек превратить в артистов.
– А чего тут удаваться? – отвечала Сашенька, широко улыбаясь. – Дети – артисты по природе своей. Текст очень быстро запоминают. Им только скажи, где сидеть, а где стоять, и они сами все сделают.
– И никаких трудностей с ними не было? – допытывался один из гостей, с аппетитом поедая уху.
– Не без этого, конечно, – отозвалась виновница торжества, помешивая остывающие щи. – Меня удивило, что они плохо знают нашу историю. Когда я читала им пьесу и дошла до места, где говорилось, что муж Маши погиб в сражении с Бонапартом, меня спросили: «А кто такой Бонапарт?»
– Ну, я-то, положим, знал, кто такой Бонапарт, – отозвался с другого конца стола Павлик Ишимов.
– Ты знал, поскольку я тебя учила. А вот другие – не знали. Не знали ни про Петра Великого, ни про грозного царя.
– Царь не может быть грозным, – проговорил сидевший рядом с Павликом Васенька Самарин, пережевывая расстегай, поданный вместе с ухой. – Он нам отец родной.
– Вот видите, даже про то, что Иван Четвертый был прозван Грозным, не знают. А ведь обо всем этом Николай Михайлович Карамзин написал.
– Николая Михайлович Карамзина не все взрослые читали, а что уж вы от детишек хотите, – вступился за сына городничий. – Вот если б кто сотворил «Историю государства Российского для детей», то я бы ее первым приобрел и Васеньку заставил прочитать от корки до корки.
После этих слов воцарилась тишина. Слышны были лишь глухие звуки стучащих по тарелкам серебряных ложек, да кое-то из гостей поедал щи, негромко чавкая. Нарушила молчание дородная хозяйка дома Степанида Михайловна Суханова, успевавшая вести беседу и командовать слугами:
– Как же ты нашего Алешку-то сподобила на ваше лицедейство?
– Алексея Степановича можно хоть сейчас на петербургскую сцену выпускать, и он многих артистов за пояс заткнет, – засмеялась в ответ Ишимова.
– Да, наш Алешка – молодец! – подхватил Степан Григорьевич, поглаживая длинную седую бороду. – Из него выйдет знатный купец. Ко всему прочему он еще и отличный охотник. Я прав? А, Алешка!
– Прав-прав, батя, – суховато ответствовал младший Суханов. – Люблю охоту.
– Вам, гости дорогие, сейчас жареных рябчиков подадут. Так знайте – это их наш Алешка пострелял, – дополнила картину Степанида Михайловна.
Ишимов, в глубине души обрадовавшийся, что центр внимания наконец-то переключился с его дочери на хозяйского сына, в это время с аппетитом доедал уху, стараясь при этом не пролить ни капли на свой парадный темно-зеленый мундир. Однако, как только речь зашла об охоте, отложил ложку и включился в разговор:
– Говорят, Алексей Степанович, что вы не только отличный охотник, но и весьма удачливый. Поговаривают, будто нечистая сила вам помогает.
– Конечно, помогает, – как ни в чем не бывало, ответил Суханов-младший. – Я с местным вэрсой дружу. Он мне дичь всякую подкидывает.
– Вэрса – это зырянский леший, папочка, – пояснила Саша, решив подыграть партнеру по сцене.
– Как же так можно с нечистой силой дружить? – неподдельно удивился Иосиф Филиппович.
– Мы, Сухановы, испокон веков с нечистью дружим, – неожиданно вступил в разговор легендарный кузен хозяина дома, хитро прищурившись. – Наш род ведется от Федьки Беса – так он и прописан в писцовой книге. Меня же и вовсе Шыпечей в молодые мои годы прозвали. То есть колдуном и разбойником одновременно.
Гости и хозяева негромко засмеялись, а слуги с непроницаемым видом меняли в это время блюда – уносили пустые супные тарелки и подавали жареных рябчиков. На стол же установили три чугунка с пышущей жаром вареным картофелем. Ребятня дружно навалилась на еду, а старший Ишимов продолжил беседу:
– Алексей Степанович, вы так и не ответили: как же вы подружились с нечистью?
Хозяйский сын как бы нехотя оторвался от им же подстреленных жареных рябчиков, и, уже не скрывая удовольствия, принялся рассказывать:
– А вот как было дело. Шел я в один прекрасный день с ружьишком мимо болота. По календарю день был четверг. Охота не задалась – никого не встретил, ни зайцев, ни рябчиков. И вдруг вижу: рядом с болотом сидит, закрывши руками голову, мохнатый великан. Он такой странный – одежды на нем нет, мох один и пятки чудесным образом вывернуты. Я сразу догадался, что это вэрса. А его васы – мелкие такие людишки с зелеными волосами – закидывают камнями. На болоте же сидит на большой коряге голый мужик и расчесывает свои длинные, тоже зеленые, волосы и командует васами. Это был вакуль, если по-русски, то водяной. Жалко мне стало вэрсу, я выстрелил из двустволки сначала воздух, а потому в вакуля. Тот тут же ушел в болото, васы за ними в воду попрыгали. А вэрса поднялся, стал высоким, как сосна, и говорит мне: «Ты меня спас, и я отныне буду тебя оберегать. А ежели ты меня пирожком с грибами угостишь, то все зайцы и дикие птицы в лесу будут твоими». Конечно, я ему дал пирожок, что мне матушка испекла. Он же еще добавил: «Охотиться ходи по четвергам. Это отныне мой день». После этого любая моя охота проходила удачливо.
Участники застолья вновь замолчали, не зная верить Алексею Степановичу или нет. Только Александра Ишимова про себя посмеивалась. Она-то знала, что лучший актер ее труппы большой охотник не только на зверье и дичь, но и на разного рода выдумки.
Охота на императора
– Сегодня четверг, а, значит, охота будет удачной, – приободрил Александру Ишимову Алексей Суханов, стряхивая с коротенькой шубки девушки снег.
Сашу трясло от холода и волнения, но слова ее друга не только не успокоили, но и заставили вздрогнуть от слова «охота», которое, как ей казалось, к сегодняшнему делу никак не подходило. Однако она спросила совсем о другом:
– Леша, при чем тут четверг?
– Ну, как же? По четвергам мне сам вэрса помогает.
От упоминания нечистой силы Александре и вовсе стало плохо. Она подошла к самому краю башенки, у нее закружилась голова, и она возможно упала, если бы Алексей Степанович ее вовремя не поддержал.

Екатерининский парк, Руинная башня
Они стояли на самом верху так называемой Руинной башни, возведенной в Екатерининском парке Царского села полвека назад в честь победы над турками и напоминал остатки турецкой крепости, порушенной доблестными русскими войсками. Приведший сюда Сашу Ишимову молодой купчик имел вид не представителя торгового сословия, а дворника – большой, свисающий чуть ли не до земли белый фартук, одетый на теплый бараний тулуп. В таком одеянии он целую неделю проторчал в парке, помогая другим дворникам убирать снег и расчищать дорожки, по которым ступала ногами семья императора Александра I.
…Прошло пять лет с того дня, когда они затеяли в доме отца Алексея первую в истории Усть-Сысольска театральную постановку. Спустя год Ишимовы покинули уездный город. Пришло предписание перевести Иосифа Филипповича в совсем захолустный Никольск. В разлуке между Сашей и Алешей вспыхнула настоящая страсть. Они оба поняли, что не представляют себе дальнейшей жизни друг без друга.
Завязалась переписка, которую оба влюбленных тщательно скрывали от родителей. Степан Григорьевич – ни за какие коврижки, ни за белые калачи – не согласился бы на брак своего наследника с дочерью опального чиновника. Да и Осип Филиппович не имел желания породниться с уездным купцом.
А под Рождество 1824 года свалилась новая беда – злопамятный Аракчеев повелел своего недруга запереть в Соловецком монастыре. Вконец расстроенная Сашенька уже подумывала о самоубийстве, но тут в Никольском объявился самолично Алексей Суханов, прибывший по своим купеческим делам. Голубки встретились, и рыдающая Александра поведала любимому о всех бедах.
Алексей сумел успокоить девушку, пообещав, во-первых, жениться на ней и увезти в Сибирь, подальше от родительских глаз. А, во-вторых, помочь в решении судьбы ее папеньки.
План был таков. Они оба едут в Санкт-Петербург и добиваются встречи с императором.
Первую часть задумки они выполнили без особого труда. Суханов-младший отправился в столицу, дабы договориться о продаже мехов и скупке хлеба. Саша Ишимова прибыла туда же по пути в Кемь, откуда пароходом, сразу после того, как море освободится от льда, вся семья должна была отплыть на Соловецкие острова. Иосиф Филиппович с женой поехали к месту новой ссылки через Петрозаводск, а их дочь вызвалась заехать в Петербург, дабы выпросить у родственников теплые вещички – говорят, что зима на Белом море совсем лютая.
Алексей выведал через знакомых, что его величество Александр I пребывает не в самой столице, а в Царском селе. Он, к удивлению высшего света, вновь сблизился со своей супругой Елизаветой Алексеевной, которой изменял с фрейлиной Нарышкиной, а она, в свою очередь, умудрилась родить дочерей от гофмейстера Чарторыйского и штабс-ротмистра Охотникова. И помирившаяся императорская чета укатила в Царское подальше от сплетен и столичной суеты.
Недолго думая, молодой купец поехал в цареву резиденцию, подсмотрел, как одеты дворники Екатерининского парка, купил такое же одеяние и присоединился к этой бригаде, заверив их, будто назначен лично Елизаветой Алексеевной. И был он столь убедителен, что бригадир и другие дворники ему поверили.
Работая дни напролет уборщиком снега, он обратил внимание, что пунктуальный император с супругой выходит на ежедневную прогулку ровно в четырнадцать часов – сразу после обеда.

Царское село, Екатерининский парк
Екатерининский парк никак не охранялся, а потому провести туда Сашу Ишимову Алексею не стоило никакого труда. Руинную башню в качестве места для наблюдения он присмотрел заранее. И вот в светлый январский день они стояли на самом верху в ожидании, когда император с супругой покажутся из Большого дворца.
Все шло хорошо, но возникло непредвиденное препятствие – на Сашу напал панический страх. Невероятная роскошь самого парка и блистающего на январском солнце дворца подавили ее. Подойти к светлому лику государя ей показалось делом немыслимым. Кто она такая, чтобы разговаривать с богоподобной особой?
Алексей не знал, как ее успокоить и уже подумывал, как бы самому подойти к императору и рассказать о злополучной судьбе Сашенькиного отца. Однако, как только гладко выбритый, в темном зимнем мундире с эполетами Александр Павлович и Елизавета Алексеевна в светлой шубе вышли из дверей дворца и направились в парк, страх из Саши Ишимовой вышел, а душа воспарилась. Она, не оглядываясь на Алексея, сбежала по лесенке вниз и кинулась навстречу императорской чете.

Александр I и Елизавета Алексеевна
Девушка не помнила, сколько времени ей понадобилось, чтобы добежать до них и, бросившись на колени, взмолиться:
– Ваше величество, прошу вас, выслушайте меня!
Император посмотрел на супругу и, угадав ее желание, помогая девушке подняться, спросил:
– Чего вы изволите, сударыня?
Саша встала и неожиданно четко, почти по-военному, изложила суть дела.
И оказалось, что всю эту историю Александр Павлович уже слышал из уст своего ближайшего друга, князя Голицына – извечного врага графа Аракчеева. А потому, как только девушка замолчала, он сказал:
– Вот что, сударыня. Я вашу просьбу охотно исполню и определю вашего батюшку в свою собственную канцелярию. Но порядок есть порядок. Вы должны подать прошение через почтовое ведомство, дабы я на нем оставил собственноручную подпись. Вы меня понимаете?
Сашенька кивнула, но виду у нее был такой растерянный, что император поспешил добавить:
– Даю вам царственное слово, что так оно и произойдет. А Елизавета Алексеевна будет тому свидетельницей.
Супруга государя улыбнулась и легонько кивнула. Саша поняла, что вопрос разрешился в ее пользу, поклонилась, попрощавшись с царственной четой, и оглянулась в поисках Алексея. Он же стоял неподалеку, опираясь на большую деревянную лопату, наблюдал за сценой.
Они вместе покинули парк, решив, что главное дело практически сделано. Зимним вечером они отметили свой успех чаем с пирожными в кондитерской «Вольф и Беранже», что на набережной Мойки.
Зимний вечер на Мойке
Возле большого желтого дома, по адресу набережная Мойки, 12, толпился народ. Несмотря на поздний час, расходиться никто не собирался. Все ждали новостей и негромко переговаривались друг с другом. Одни ругали почем свет Дантеса и барона Геккерна, другие их оправдывали, полагая, что дуэль есть честный поединок, хотя и сожалели о печальном исходе. Но более всего обсуждались перспективы судьбы Пушкина – выживет или нет. И что будет, если выживет: понесет наказание за участие в дуэли или государь-император его простит, как уже не раз прощал.
Тридцатидвухлетняя женщина, укутанная в теплый пуховый платок, со свертком в руке, быстрым шагом прошла сквозь толпу, но возле парадной ее остановил рослый преображенец.
– Я – Ишимова, доложите обо мне Жуковскому, – приказала она солдату.
Тот и не думал повиноваться, но Жуковский, растрепанный, с покрасневшими глазами, сам показался в переполненной людьми прихожей. Ишимова помахала ему рукой, и он попросил преображенца ее пропустить.
– Здравствуйте Александра Осиповна! Подумать только… Вот ведь беда какая! – нервно проговорил поэт, вытирая платком вспотевшую проплешину.
– Василий Андреевич, скажите: он поправится? – твердым голосом спросила Ишимова.
– Не знаю, не знаю, голубушка. Не знаю… Все в руках Божьих. Лейб-медик Арендт говорит, что вряд ли. Он очень плох… Вы его видеть хотели? Насколько близко вы с ним были знакомы?
…Знакомство Ишимовой с Пушкиным было, что называется, шапочным. Несколько раз они пересекались в литературных гостиных, и только однажды Жуковский представил ее Александру Сергеевичу как автора «Историей России в рассказах для детей». Пушкина эта книга заинтересовала, и он попросил ее прислать на набережную Мойки,12.
Двенадцать лет минуло с того дня, как она с купчиком Сухановым в кондитерской на противоположной стороне от этого дома пила горячий чай, и они мечтали о том, как вдвоем после тайного венчания укатят в Сибирь, где найдут золото, обустроят торговлю и родят 12 детей, не меньше. Но все это лишь после того, как ее батюшку освободят от ссылки, и государь-император примет его в свою канцелярию.
Александр I сдержал обещание и поставил обещанную резолюцию на письме Александры Осиповны. Ее отца не отправили на Соловки, но и вернуться в Петербург не дозволили. Он застрял в Архангельске. Александра, полная решимости довести дело до конца, написала второе послание и была даже готова вновь добраться до очей государя, но тот уехал с Елизаветой Алексеевной в Таганрог, где скончался самым неожиданным образом.
Алексей же вернулся в Усть-Сысольск, дабы закончить свои дела. Но не закончил. Его отец, избранный городским головой, торговые дела забросил и попросил сына взять их на себя. Вместо Сибири Алексей Степанович двинулся на Печору, где обнаружилась брусяная гора. Он взял ее в аренду, дабы добывать из нее точильные камни. Торговля сиим предметом дела поправила, и молодой купец был готов и к тайному венчанию и бегству в дальние края. Ждал только весточки от любимой Александры. Увы, не дождался.
А Александра Осиповна принялась досаждать письмами с прежними просьбами нового государя Николая I. Ответов не получала, и чтобы как-то жить, открыла небольшой частный пансион. Петербургские власти его быстро прикрыли, но не потому, что папенька опальный чиновник, а лишь по той причине, что Ишимова не имела университетского диплома. И тогда Александра Осиповна взялась за литературные переводы английских и французских книг для юношества и весьма в этом деле преуспела.
Ее приметил поэт Жуковский, назначенный наставником цесаревичу Александру. Сам цесаревич с подачи Василия Андреевича читал переводы Ишимовой с превеликим удовольствием. Особенно романы Вальтер Скотта.
Александра Осиповна, между тем, взялась за грандиозный труд – решила перевести на понятный детям язык карамзинскую «Историю государства Российского». Увлекшись литературными заботами, она забыла про Алексея Суханова и его обещание укатить с ней в Сибирь, где она теперь была никому не нужна…
– Я мало знала Александра Сергеевича, – честно призналась Ишимова Жуковскому. – Но позавчера он прислал мне вот эту книгу, а к ней приложил вот это письмо.
Александра Осиповна развернула сверток и показала книгу пьес и поэм англичанина Барри Корнуэла в твердой обложке, а также пушкинское послание.
– В письме он посоветовал перевести кое-что из этого на русский язык, – пояснила Ишимова. – Я только хочу ему сказать, что исполню его пожелание.
– Он сейчас очень плох и никого не хочет видеть, кроме самых близких, – тяжело вздохнул Жуковский. – А вы не дозволите ли мне прочитать его послание?
– Да, пожалуйста, – ответила Александра Осиповна и протянул Жуковскому конверт.
Василий Андреевич натянул очки и принялся бормотать, читая написанное: «Милостивая государыня Александра Осиповна. Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест честь имею препроводить к Вам Barry Cornwall. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше».
Дальнейшие строки он прочитал про себя, а затем повторил их негромко, но внятно: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу «Историю в рассказах» и поневоле зачитался. Вот как надобно писать! С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть, милостивая государыня, Вашим покорнейшим слугою. А. Пушкин».

Ф.Бруни. Александр Сергеевич Пушкин 30 января 1837 года
– Похоже, это последнее, что он написал, – горестно резюмировал Жуковский. – Видимо, больше он уже ничего не напишет.
* * *

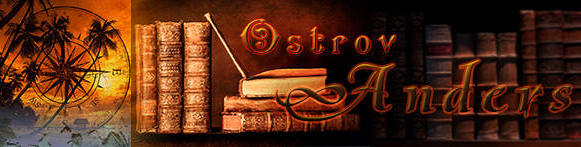
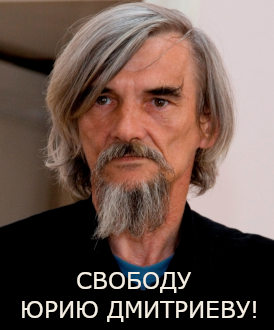
 EN
EN Старый сайт
Старый сайт
 Буторин Николай
Буторин Николай  Голод Аркадий
Голод Аркадий  Тубольцев Юрий
Тубольцев Юрий  Самойлов Борис
Самойлов Борис  Андерс Валерия
Андерс Валерия 