Свое весьма среднее образование я получила в не менее средней школе № 57 в одном южном городе у моря. Скучное, серое четырехэтажное здание казарменного типа послевоенной постройки, располагалось на Соборной площади. Соборной - эту площадь можно было назвать условно. Собор здесь, и, правда, был. Когда-то давно. А в героические советские времена он был благополучно взорван. Попросту снесен с лица города со всеми его красотами и святынями. Что делать? Таким было время. Такими были люди, и так они выразили свои верноподданнические чувства идеалам революции... Наш доблестный педагогический коллектив отдавал нам скудную массу знаний. Они облекали их в столь унылую форму, что знания увядали и чахли, еще не достигнув нашего сознания... Испытанная подруга лени - ирония - была способом нападения, защитой и оправданием. Но и учителя порой были не лыком шиты: они отстреливались оценками... Вспоминается один из уроков украинской литературы. Анна Ивановна - преподаватель, принадлежала к тому типу педагогов, которых в 70-80 годы в кино и театре изображали с поношенной сумкой в руках, связкой тетрадей и «авоськой» с картошкой.... Не знаю, чувствовала ли она нашу иронию, порой юношески безжалостную. Но на каждом уроке, упорно продираясь сквозь стену «гур-гуров» (в кино так называют фоновой говор), она несла в массы украинскую культуру. С чувством стыда сегодня вспоминаю наглость, с какой веселила класс, когда на уроке по «Слову о полку Игореве» якобы «наивно» спросила: - Игорь - князь Новгород-Северский, почему же Ярославна плачет в Путивлеграде на валу? Как она там оказалась? Удар был недостойный. Анна Ивановна потеряла дар речи. Класс в напряжении замер. В отчаянии Анна Ивановна держала паузу, как заправская актриса. Потом решительно выдохнула: «Переехала туда..» Радостный гогот класса утопил неловкость ответа... А еще украшали нашу школу великолепные мужские экземпляры. Преподаватель военного дела. Он же физрук. Мужчина крупный и крепкий по всем статьям, в руках которого классный журнал и указка выглядели непривычно. Годы строевой службы застыли в его позвоночнике, как застывает бетон. И, казалось, из глубин его естества рождался язык, столь же негнущийся, как и мысль, которую он пытался выразить. - Я настоятельно прошу всех привести себя в должное состояние по отношению к вашей тумбочке. Что в переводе означает - уберите лишнее со стола. Для выражения полного недоумения и растерянности была фраза: - Ну, знаете ли... Это в умат, глухо и вооще... (не переводится). Или - врываетесь, понимаете ли, в класс, не отдохнув, спустя кое-как....
И главным украшением нашей гвардейской школы был директор Николай Петрович Акулов. В быту по-простому - Тюлька. Любимая шутка нашей школы даже от многократного употребления не теряла для нас своего обаяния и первозданного веселья. От мальчишек и девчонок выделялись кандидаты с голосами пониже. Затем следовал звонок в кабинет директора, и приятный женский голос с нежнейшей интонацией спрашивает: - Алло! Это рыбный магазин № 57.. - Вы ошиблись. Это школа № 57. Спустя минут 10-15 снова звонок, но уже мужской голос: - Алло! Это рыбный магазин № 57... - Я сказал уже: это школа. Нету у нас рыбы... Трубка раздраженно летит на рычаг. И снова звонок: - Алла! Рыбный магазин? На другом конце провода напряжение растет, и абонент взрывается визгом: - Школа! Школа это!... И в ответ полный удивления голос: - Как странно... Но почему же тюлька у телефона ?... Так мы жили, развлекались. По-своему боролись с унылостью жития. Не так давно я прочла у Феллини: « Молодые люди не знают, чего хотят. Но полны решимости добиться этого.» Не могу не представить двух учителей с человеческими лицами. Наши любимые «одуванчики», супружеская пара: Мария Николаевна - преподаватель русского языка в младших классах, и Дмитрий Степанович - математик. Оба знатоки своих предметов, интеллигенты от рождения. Хотя наши выходцы от сохи и кайла называли их «гнилой интеллигенцией»... Мне бесконечно жаль, что именно на уроках Дмитрия Степановича у меня оказывалось бесконечное множество срочных дел, которые требовали немедленного обсуждения с соседями по парте. Но, Боже милостивый, я и сама не пойму, куда они все исчезали, едва звенел звонок с урока... Дмитрий Степанович был стоически терпелив и вежлив безукоризненно. Почему-то уважал: никогда не ставил меньше «четверки». Правда, больше - тоже... Нам опостылела постоянно действующая экспозиция учительских лиц. Наши души требовали новизны: лиц, мыслей, языка. И вот однажды в разгар большой перемены, когда после вынужденной бездвижности на уроках, страсти кипели, застоявшаяся энергия изливалась буйством, не внимая слабым призывам дежурного учителя к спокойствию, дверь директорского кабинета резко отворилась, и высокая статная женщина с гордо поднятой головой вступила в бурлящую лаву перемены...От ее фигуры исходила такая властная, странной силы энергетика, что движение в коридоре замедлилось, и вокруг женщины образовалось свободное пространство. Не теряя времени, шагом ансамбля «Березка» в освободившееся пространство вплыло хилое тельце нашего славного Тюльки, и засеменило следом за женщиной... Женщина была в нашей школе новым лицом, столь непохожим на всех, кого мы видели раньше. Элегантная, в строгом синем костюме в полоску и в белой блузке , она являла собой классический стиль педагога. Ни в нашей школе, ни в соседней аналогов этому женскому типу мы не знали. Черты лица ее были крупной лепки. Нос - тонкий, с аристократической горбинкой. Чуткие ноздри передавали настроение их обладательницы. Серо-голубые глаза, глубоко посаженные, из-под невысоких бровей смотрели на тебя пытливо, но доброжелательно. Зубы, будто сражались за место в деснах, и по команде «Замри!», замерли, не закончив движение, кто, как успел... Ее лицо нельзя было назвать красивым в привычных канонах - правильности и симметрии. Но оно обладало удивительной притягательностью. Серые глаза, которые могли принимать стальной оттенок, как северное море, излучали свет доброты и подлинный природный аристократизм... Мы разглядывали новое лицо, пытаясь угадать, кто она и откуда, зачем посетила наши Пенаты. Но спасительный звонок на урок заверещал, как всегда неожиданно, загнав всех в стойла. То-бишь, в классы. Наверно, еще долго мы бы жужжали, от безделья рождая всяческие предположения, но разгадка пришла сама. В класс вошел Тюлька, показавшийся нам даже элегантным в новом темном костюме, и Она - наша Незнакомка. - Я хочу вам представить,- торжественно начал Тюлька ,- вашего нового классного руководителя - Ольгу Витольдовну Недзведскую. Прошу любить и жаловать! Она также будет преподавать у вас русскую литературу... et c.t.r. - и все, что говорят в подобном случае. Мы обменялись приветственными улыбками - все, как в лучшем обществе, и директор покинул нашу территорию... Думаю, нет нужды описывать процедуру знакомства. Она всем известна. Новым было, пожалуй, одно - впервые к нам, привыкшим к жизни вразвалочку, обратились на «Вы». Нас, не воспитанных в нормах «куртуазности», поразил легкий шок. А наше самосознание и уважение к себе росло, как бамбук... Итак, началась наша совместная жизнь. Это было время великих, почти географических открытий для нас. Впервые нам было велено не увлекаться чтением учебника-разбора. Велено читать, в первую очередь, первоисточники. Собственно, литературу. А еще впредь сметь «свое суждение иметь». А оказалось это - ох, как непросто. Медленно, ошибаясь и спотыкаясь, мы осваивали науку мыслить. Понимать. Чувствовать... Одним из любимых поэтов Ольги Витольдовны был Маяковский. В этом наши с ней вкусы разошлись кардинально. «Горлан», «Главарь» был для меня слишком громким. Слишком политичным. Прочитала я самое рекламируемое - не приняла и успокоилась, собой довольная. А вот Ольга Витольдовна прочитала нам (наизусть!) «Про это», «Флейту-позвоночник», и мой собственный позвоночник проняла дрожь... Я услышала голос человека страстного, с нежной израненной душой. Я поняла, почему он так близок О.В. Немного я знала о ее жизни, но почему-то предполагала, что пережить ей пришлось немало. Я ощутила в ней жесткий каркас личности в сочетании с душевной нежностью и добротой... За короткое время она стала в нашей школе своеобразным центром солнечной системы. Ребят тянуло к ней. И в свете ее ауры усмирялись самые отпетые безобразники и лоботрясы. Для каждого она находила нужные слова, интонации. Была и добра и строга. Школа была ее призванием: всех она умела понять, а когда нужно - и помочь. Я заметила, что ей ближе и интереснее были умные и талантливые ребята. И, хотя не столь уж долгим был период нашего общения, но ее влияние на наш духовный мир, было глубоким и творческим. Нас было пятеро - удостоенных ее дружбы и доверия. Это были 4 парня из 10-х классов, и единственной особью женского пола, самой младшей в этом кружке - оказалась я. Не стану размышлять, по какому из талантов я была принята всеми ими как равноправная. Ребята и, правда, были умны, интеллигентны, если и не по рождению, то по духовному складу и знаниям. И сегодня, оглядываясь в те далекие годы, я удивляюсь ее дару видеть человека, отдаю дань ее чутью и интуиции. Ее выбор во всем оправдал себя. Один из наших мальчиков стал главным режиссером одного из московских театров. Другой, окончив киноведческий факультет ВГИК, стал киноведом, издал свои книги по теории и социологии кино. Третий стал артистом, работал во многих театрах России. Четвертый, правда, «подкачал» - стал известным врачом-ортопедом. Да и я - знаменитостью не стала, но из общего русла не выпала. Закончив институт, проработала в кино по душевной склонности много лет... Мы стали частыми гостями в доме Ольги Витольдовны. Наша дружба быстро становилась достоянием гласности. И реакция в школьной педагогической среде была разной: от иронии до откровенной неприязни. Коллегам О.В. это совсем не нравилось. И нам, чистым душам, не услышать было первых далеких и глубоких раскатов... Человеческие чувства - это многообразие нюансов - от плюса до жирного минуса.
Но, как бы то
ни было: нам все нравилось. Мы ждали этих встреч. Мы готовились к
ним - все для нас было волнующим и радостным. Помню, как впервые мы были
приглашены «на чай». У меня было ощущение, что я оказалась в библиотечном
зале. Книги - в них была душа хозяйки и ее главное материальное богатство. На одном из стеллажей мое внимание привлекли 5 книг не стандартного формата. Я не сразу поняла, что привлекло мое внимание. Но уже через минуту я узнала одну из них. Мы уже встречались однажды, когда и читать-то толком я еще не умела... Я воспитывалась у родни, людей добрых, но весьма далеких от литературы. А уж зарубежной - и подавно. И, Бог знает, каким смерчем ( обычному ветру это не под силу), из каких далеких земель занесло в наш скромный дом эту книгу. Непривычно крупного формата, с золотым тиснением на темно-серой обложке под кожу, с изящными гравюрами, иллюстрирующими содержание книги... Издательство Маркса. Глаз не оторвешь от такого великолепия! Жила эта книга в нашем доме одиноко и неприкаянно, замкнувшись в себе. Никто ее не открывал. Кроме меня. А уж читать ее - такая шальная мысль не посещала в доме ничью голову. Я любила разглядывать Книгу. (Читала во 2-м классе я плохо.) Я гладила ее страницы, как живую кожу. Перелистывала ее плотные листы, любовалась гравюрами, закрывая их тонкими листами «папиросной» бумаги, защищая от злых помыслов и влияний... Я узнала, что это был том неизвестного мне тогда английского поэта Джорджа Гордона Байрона. Какой же он был красивый - этот таинственный лорд Байрон! Так хотелось узнать о нем больше - ведь в реальной жизни я еще не встречала таких утонченных мужских лиц. Я пыталась читать тексты книги, но на тот час слова казались мне мудреными, и смысл их уплывал от меня... Я нуждалась в помощи, но попросить ее, увы, было не у кого. Мой ум еще был в завязи, и я сдалась беспомощно. Красавица-книга сохранила в нашем доме свою «невинность». Из дома и из моей жизни она исчезла тогда так же таинственно, как и появилась... Прошло много лет, и вот в доме Ольги Витольдовны мы встретились с ней радостно, как с давним другом. Готова поклясться - она узнала меня. Впервые в этом доме я узнала романтическую и грустную историю жизни и смерти поэта. А главное - я смогла познакомиться с его стихами, поэмами, пьесами. Я прочитала и навсегда полюбила его сверкающий блеском ума роман в стихах - «Дон Жуан». Уж так сложилось, что в течение жизни я прочитала его в разных переводах русских поэтов - Козлова, Шенгели. А уже во взрослой жизни - в период учебы в институте была дружба с человеком уникальным - Николаем Павловичем Акимовым. Мне довелось не однажды бывать на репетициях поэтической композиции «Дон Жуана» в его постановке в Театре Комедии. Несколько раз я видела готовый спектакль и даже познакомилась (пусть и не близко) с автором самого современного перевода Татьяной Гнедич... В тот день в гостях у О.В. я убедилась: воистину в жизни нет ничего случайного... Был в Ольге Витольдовне профессиональный, то ли человеческий дар превращать всякое знакомство с литературой и искусством в открытие для ее учеников. И даже рассказывая о том, что нам знакомо, она умела так осветить материал, что он открывался нам новой гранью. Наши еще детские души, часто не находившие отзыва и понимания в собственном доме, тянулись к общению с Ольгой Витольдовной. Ее жизнь до нашей встречи была для меня загадкой. Тайной за семью печатями. При всей искренности и открытости общения между нами, есть грань, переход за которую - табу... Грань Учитель - ученик не пересекать. Но однажды субботним вечером мы долго беседовали, Ольга Витольдовна рассказала нам немного о себе. Ее семья принадлежала к давно обедневшему, старинному шляхетскому роду Недзведских. Ее детство прошло в Литве, где у семьи было небольшое уютное поместье, естественной границей которого была полоса золотого песка и стена из сосен, открывавшая выход к холодному, серо-стальному морю... Она любила их уютное красивое поместье. Любила гостеприимную, дружелюбную и интеллигентную атмосферу их семьи. Ее мать была красивой образованной женщиной. Отец - потомственный капитан дальнего плавания. Работник и поэт моря. Они с братом гордились своей семьей и древней историей их рода. Збышек - брат - давно избрал профессию отца. О другой и не мечтал. И готовился к поступлению в университет Варшавы. Их родовой греб представлял собой медальон, разделенный на 4 участка. В центре располагалась внушительная фигура бога морей Нептуна. В одной руке он держал трезубец, в другой - раскрытую книгу-карту. Познание и Сила. Все мужчины этого рода были потомственными мореходами, исследователями, путешественниками. И защитниками Отечества... Итак, Збигнев пошел по пути отца. А Ольга, получившая хорошее домашнее образование, поступила на литературный факультет университета в Вильно. И блестяще окончила его. Тем временем в мире назревала гроза. В Германии к власти пришли наци. Сепаратный договор Молотов - Риббентроп отдал дорогую для них Польшу на заклание высокой политике. Отец Ольги Витольдовны - Витольд Недзведский - интеллигент, аристократ, был профессионалом самого высокого класса. Он был напрочь чужд политике. Его просвещенный ум не мог принять идеологию фашизма - власть зла и хамства, ненависть, которую несла она человеку. И единственно возможной для него формой протеста - было погружение в работу... В июле 1941 г. немцы оккупировали Литву, и длилось это до июля 1944 г. Советские войска выбили немцев из Прибалтики. Так Литва оказалась под властью Советского Союза. И тут начались «чистки» не легче тех, что проводили немецкие оккупационные войска. Аресту и высылке в Сибирь подвергались все, чьей «виной» было происхождение, образование, да и сам факт, что, пережив оккупацию, остались живы... Арестован был и отец Ольги Витольдовны. Ему было предъявлено любимое обвинение Органов - шпионаж. Статья 58. Вот только обвинение на этот раз несколько отходило от «стандарта». Его обвинили в шпионаже в пользу разведки Великобритании. Видимо, главным доказательством было то, что Витольд Недзведский - высокий, поджарый и элегантный - всегда выглядел, как лорд адмиралтейства... Но уж, как бы то ни было, он был осужден без суда и следствия на 10 лет лагерей в Казахстане, а затем 10 лет поселения. 20 лет! Семье тяжело было это осмыслить. Их небольшое поместье было реквизировано. Семье оставили комнатку 7м во флигельке, где раньше располагалась обслуга имения. Мать Ольги Витольдовны - дама изысканная, изнеженная, малознакомая с понятием «труд» и «неудобства», лишившись опоры мужа, ушла в глубокую депрессию, и бездействие. Серьезно занемогла и вскоре умерла. Ольга осталась одна. О брате ей ничего не было известно. Похоронив мать, она поняла, что должна быть вблизи отца. Чем сможет помочь ему, она не знала. Ее мучили мысли о том, как отец - интеллигент с характером властным, привыкший быть хозяином на корабле, вожмется в режим тюремного быта. Как найдет контакт с разношерстным окружением. Эти проблемы были неразрешимы. Она уехала в далекий, жаркий Казахстан... Как часто за эти бесконечно долгие годы ей снилась родная Литва: узкая полоска золотого песка, серое небо, стального цвета море, и высоко густая ограда сосен... И во сне она чувствовала запах хвои, прохладный ветерок моря - это был запах дома. Родины. Она просыпалась, и из единственного окна своей комнаты в общежитии школы она вновь видела до горизонта выжженную степь, беленькие домики поселка и, кажется, никогда не заходящее солнце... В ее душе не было бессмысленной обиды, озлобленности. За годы мытарств и передряг Ольга научилась воспринимать действительность со спокойствием мудреца. И, как только для отца закончились годы тюремного заключения и поселения, из которых он вышел иссохшим и сломленным духовно и физически, Ольга поняла, что оставлять его здесь дальше равносильно казни. И, оставив больного отца на попечение соседки, на неделю она устремилась в Литву. В их маленьком поместье, которое теперь именовали «хутором», сохранился бывший барский дом. Когда-то он был высоким и просторным. Если глядеть из далеких времен детства. Сейчас он будто потерял часть своего обаяния, усох и завял... Он был побелен известкой и стал лишь частью общего пейзажа. После прихода в Литву советской власти здесь разместился клуб и контора рыболовецкого совхоза. И только на фронтоне дома сквозь побелку шальной непрофессиональной кистью попрежнему выделялся барельеф медальона с их старым родовым гербом. Вокруг сновали рыбаки, водители грузовиков - чужие, незнакомые люди. Она искала убежища у моря. Вот он, такой знакомый и родной пейзаж. Серо-стальное море, оставившее свой отсвет в цвете ее глаз, полоса золотого песка и зеленая изгородь сосен. Теплая волна подкатила к глазам... Но чей-то резкий окрик вернул ее к действительности. К ней приближался мужчина с ружьем в форме офицера...советской армии. Он проверил ее документы и нелюбезно сообщил, что бывшие хозяева высланы, как враги народа. Эти слова хлестнули ее в самое сердце. С детства до боли любимый пейзаж внезапно померк. Здесь была разрушена ее семья. Здесь она потеряла любимого человека. Не принял он власть Советов! Стало ясно: нет у нее ничего - ни дома, ни Родины. Судьба явно была немилостива к ней... Что-то надо было делать. Случайно на глаза ей попался томик Бабеля - «Одесские рассказы». Где-то в умеренно теплом климате живут же веселые, с юмором люди... Захотелось к ним. В Вильнюсе работал ее сокурсник, некогда увлекавшийся ею. Сейчас этот сокурсник занимал крупный партийный пост в аппарате ЦК партии Литвы. Ольга добилась приема. Чиновник встретил ее тепло, обещал всяческую помощь и поддержку. Хотя уже знал историю ее жизни. И проблема решилась быстро. Он связался со своим другом в аппарате ЦК партии Украины, и вопрос о ее трудоустройстве и жилье был решен легко и просто. Как многие мечтают начать жизнь «с чистого листа». Как будто это возможно. Наше прошлое - это «птица-Феникс», которая восстает из пепла, в какие бы глубины памяти мы ни загоняли его. Оно всегда с нами. Всегда в нас. В Казахстан Ольга Витольдовна возвращалась с надеждой, что жизнь сменит, наконец, гнев на милость. Но отца она застала в плачевном состоянии духа. Заключение - постоянное подавление духа, унижение личности, разрушило его энергию и желание жить. Он был очень благодарен дочери. Восхищался ее мужеством и любящим сердцем, которое она отдала семье. Ольга самоотверженно ухаживала за отцом, но вскоре и он покинул ее. И снова - одна. Ее жизнь - это какой-то бесконечный бег наперегонки с одиночеством. Южный город, в который ей предстояло ехать, был ее последней надеждой. Почему-то ей казалось, что там ее ждет долгожданный покой, по которому она так стосковалась. Все в этом городе понравилось Ольге Витольдовне сразу. Сам город, где улицы расположены в шахматном порядке к морю. Теплое, незловредное солнце, голубое небо и ласковое море. Здесь царила непривычная для северян атмосфера юмора и какой-то легкости восприятия жизни. Как оказалось на поверку, легкости кажущейся. Ольга считала, что она уже оплатила все свои долги, накопленные за прошлые жизни. Потому как совсем непросто признать, что Судьба - это, увы, не на время. Это навсегда. И неведомо было ей, какое новое испытание уготовила ей ее жестокосердная Судьба... В нашей школе Ольга Витольдовна была словно лампочка в 100 вт, которая светит постоянно. Не выключить ее, и в ее свете не спрятать сор и грязь. Просто не было иного выхода: только разбить ее. В силу своего возраста и отсутствия жизненного опыта я мало разбиралась в тонкостях человеческих отношений. Но природа подарила мне чуткое умение чувствовать температуру, которую излучает человек. Так вот, эта температура от коллектива людей почему-то накалялась. Я не могла бы объяснить причину, но в этой накаляющейся атмосфере я чувствовала угрозу для Ольги Витольдовны. Я наблюдала за ней, но она держалась так - комар носа не подточит! Но я ощущала - угроза реальна. Ее невзлюбила мать нашего любимца, умницы и красавца Игорька. Мать Игоря - дама импозантная и высокомерная из породы тех военных «аристократок», которые славно пожили в оккупационной зоне Германии. Она председатель родительского комитета школы. И Ольга с ее спокойным независимым природным аристократизмом... В ней мать Игоря увидела угрозу своему родительскому и общественному авторитету. Наша мамаша - дама активная. И по школе поползли слухи, намеки. Неясные, нечеткие, нос привкусом непристойности... Мое чуткое ухо оказалось не на высоте... Я не могла уловить их смысл. Закончился учебный год. На время все школьные конфликты ушли в сторону. Наши мальчишки занялись обустройством своей судьбы. Уехал в Москву и наш Игорек, который стал косвенным героем скандала. Мы много общались с ребятами перед их отъездом и еще больше сдружились. Безопасность Ольги ребята поручили мне. С их отъездом скандал, загнанный в подполье, вырвался на свободу. Я кожей ощущала накал страстей. Вот только причин и смысла мне было не ухватить. Все время я старалась быть рядом с Ольгой Витольдовной. Порой ее глаза становились цвета стали, как море ее родной Балтики. Ее обвиняли в чем-то настолько мутном и непристойном, что она даже не посчитала нужным и возможным защищаться или оправдываться. Иногда она казалась рыбой, выброшенной из родной стихии. Она жадно захватывала воздух открытым ртом, словно задыхалась. Мне было бесконечно жаль ее. Так хотелось помочь, но задавать вопросы я не смела. Я знала, что ответа не будет. В ее глазах я читала молчаливую благодарность за сочувствие. Все силы она, как благородная львица, бросила на то, чтобы защитить нас - ее друзей. Ее детей. Эта взрослая муть и грязь не должна была коснуться нас. Она не могла мне объяснить, что мир, увы, не идеален. Что добро и зло живут рядом, порой сплетаясь в тугую косу. Она решила оградить нас от того, что может разрушить то, чему учила она нас все это время. Позднее мы узнали, что представители парткома, руководство школы и Отдела образования требовали допросить и нас, детей, в качестве свидетелей. Вот только свидетелей чего? Этого мне было не понять. И О.В. твердо решила взять удар на себя... Дата судилища была от меня скрыта. И я не могла даже мысленно послать ей свою поддержку. Всей Тюлькиной рати она противостояла одна. Но, как рассказал мне спустя время наш математик Дмитрий Степанович, держалась она с достоинством коронованной особы... Я горжусь Вами, Ольга Витольдовна! Ей было предписано оставить школу до начала нового учебного года. Для нее это означало также покинуть полюбившийся город. И нас, конечно. Она сообщила мне о вердикте спокойно. Без паники. Понимаю, как дорого давалось ей это спокойствие. Мы стали для нее детьми. Мы понимали это, и чувствовали, что успели полюбить ее, а она нас. А ведь это дорогого стоит... Ребята были в Москве. Они делал и свой рывок, пытаясь ухватить судьбу за хвост. Я была здесь одна и ничем не могла помочь Ольге. Ведь никого ближе и роднее ее у меня не было. Я не могла понять и принять правила взрослого мира. Мне было 15, и я не хотела взрослеть. Я чувствовала, что происходит что-то несправедливое и жестокое. И с теми, кто твори л это, я быть не хотела. У меня было ощущение будто долотом из меня выкорчевывают развалившийся зуб. Я была маленькой и бессильной... Но я одна знала, что ехать ей некуда. Да и не к кому. Я ощутила в ней плохо скрытую растерянность. На какую-то минуту она расслабилась и рассказала, что ее старинный друг - проф. Алма-Атинского университета - давно любит ее и зовет к себе... Она не могла принять решение. Я поняла - это выход! Я почувствовала в себе силы и взяла решение на себя. Я настояла ( я стала старшей), и мы вызвали ее друга на переговоры. Писклявым от напряжения голосом я кричала по телефону: «Мунтарбек Назарович, Ольга обязательно к Вам приедет. Она так нуждается в Вашей помощи. Спасибо Вам!» Ольга расслабилась и перестала сопротивляться. Я почувствовала ее благодарность за то, что в свои 15 лет смогла стать взрослой и сильной. Сумела повлиять на ее решение... Мы вместе упаковывали книги. На память Ольга Витольдовна подарила мне тот саамы том издания Маркса, где был напечатан «Дон Жуан». Подумать только! Он - лорд Байрон, красавец, поэт, один из самых блестящих умов 19 века, мужчина, который держал женщин на коротком поводке, вернулся - ко мне!!... Вот чудеса-то... Книги мы отправили багажом. А нехитрый скарб уместился в нескольких чемоданах. На вокзале я провожала ее одна. Перед отходом поезда прибежали Дмитрий Степанович и Мария Николаевна. Я радовалась, что, наконец, Ольга обретет покой и любовь. Но ее отъезд - был моей первой болезненной потерей в жизни... Через месяц пришло письмо из Алма-Аты. Теплое, успокоенное. Ольга писала, что все у нее хорошо - даже самой не верится. Впервые она ощутила мужскую заботу и любовь. Ей даже представить трудно, что было бы с ней, если бы я не настояла на ее отъезде. И если бы был здоров ее друг, и мы не так далече - она была бы совсем счастлива. Но, как говорила одна моя знакомая: «Два «хорошо» - не бывает.» Второе письмо пришло через 3 месяца. Оно было тревожным, ибо ее друг был болен, и все ее время принадлежало ему. Мы не должны были обижаться. Да и не обижались мы вовсе. Ольга очень боялась потерять его. Третье письмо дышало горем. Самое страшное - случилось: ее друг оставил этот мир. Она была безутешна: такова уж ее злая судьба. Не приносит она счастья близким. И все же она не считает свою жизнь пустынной. Своим главным завоеванием она считает наши чистые благородные души, которым она помогла осознать что-то главное в этой жизни... Ольга верит в призвание каждого из нас и считает, что дальше каждый должен идти своей дорогой. Влиять на нашу жизнь она уже не имеет права... И где бы она или ее душа ни была, в этом мире или в ином, она всегда будет рядом с нами - в горе и в радости. Это письмо было последним. С этими словами она ушла с «наших радаров» навсегда... Единственный известный нам адрес: «Казахстан, Алма-Ат. Главпочтамт. До востребования.» Наше письмо не вернулось. И ответа не было. И в будущем, когда настигала тьма - не разобраться: откуда ни возьмись - черноту неба прорезало гибкое светящееся тело кометы. А ее пышный искрящийся хвост надолго освещает нам путь... Это благословляет нас Вера и Любовь нашего Учителя. |


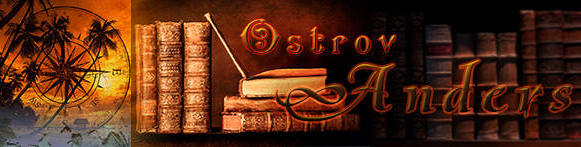
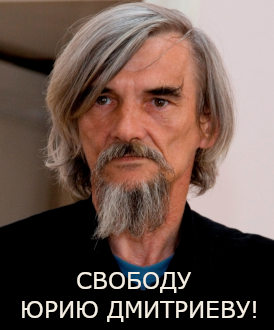
 EN
EN Старый сайт
Старый сайт Лейшгольд Ирина
Лейшгольд Ирина  Мендельсон Иегуда
Мендельсон Иегуда  Кравченко Валерий
Кравченко Валерий 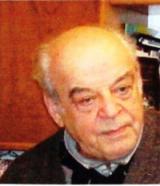 Талейсник Семен
Талейсник Семен  Флерик Мейф Амалия
Флерик Мейф Амалия  Вайнер Ирина
Вайнер Ирина  Демидов Вячеслав
Демидов Вячеслав  Борисов Владимир
Борисов Владимир  Коровкина Ирина
Коровкина Ирина  Аарон Борис
Аарон Борис  Зисман Юлия
Зисман Юлия  Ковалёва Наталья
Ковалёва Наталья  Андерс Валерия
Андерс Валерия 

