Предисловие
В 2006 году я в первый и последний раз стал безработным. Это произошло потому, что первый зам. Главы Коми Алексей Чернов решил закатать в асфальт свободные СМИ в нашей республике и начал с меня. Чтобы не сойти с ума от безделья, я решил написать приключенческий роман. В то время я увлекался финно-угорской мифологией. Особенно мне нравились мифы об орте – двойнике человека, являющегося к его знакомым и близким перед его кончиной, и о соперничающих братьях-богах Омоле и Ене. Но более всего – легенда про чудь белоглазую, которая, не желая принимать христианство, ушла под землю, то есть сама себя похоронила. И я подумал: а что, если она, исчезнув в глубинах Земли, не погибла, а создала собственную цивилизацию?
Так за два месяца родился роман «Ен бикинь» («Божья искра»). Не зная, что дальше делать, я его распечатал и стал предлагать его почитать кому ни попадя. Согласилась одна малознакомая московская журналистка. Возвратив через несколько дней рукопись, она сказала, что испытала сильное потрясение – такое же, как от романов Мураками.
Воодушевленный я, будучи проездом в Москве, отнес роман в первое попавшееся издательство. Редактор полистал рукопись и сказал, что объем слишком мал и посоветовал написать продолжение, чтобы получилась дилогия. Но как это сделать, если действие романа разворачивается с 1942 года и по наши дни? И тогда я решил сотворить приквел с родителями главных героев. Однако только я сел за писанину, как на меня посыпались предложения о работе, и пришлось забросить дилогию на целых 16 лет.
Только в этом году я удосужился перечитать написанное и решил, что история подземной страны, объявившей войну христианству, но заразившейся от жителей поверхности Земли корыстью и властолюбием, также актуальна, как и в «нулевые» годы. И с немалым удовольствием сел за доработку. Теперь представляю «Омоля и Ена» на ваш суд. Буду выкладывать частями, и буду счастлив, если кто-то прочтет до конца.
Краткий уламско-оламский словарик
Омоль – бог нижнего мира
Ен – бог верхнего мира
Морт – большой человек
Орт – двойник человека, предвестник смерти
Уламкола – подземная страна, расположенная к западу от Полярного Урала
Уламы – жители Уламколы
Оламы – жители поверхности Земли
Джыны – полукровки, дети от смешанных браков оламов с уламами
Ыджик – Большой совет, нечто вроде Сената Уламколы
Юрла – правитель Уламколы
Юраси – соправители Уламколы
Юрадыси – члены правительства Уламколы
Тэдыши – ученые Уламколы
Чэрыдеи – внешние и внутренние наблюдатели, шпионы и разведчики Уламколы
Веры – жители верхних ярусов подземной страны, по сути, рабы
Чокор – рабочий коллектив
Веськод – руководитель чокора
Кэртас – группа людей, связанная единой целью и единым полем
Торъя – карантинный изолятор
Сернит-лэб – комната для общения, гостиная
Шор-сернит-лэб – комната для встреч представителей разных ярусов Уламколы
Мутас – большой зал для собраний представителей всех ярусов Уламколы
Вочом – устройство для занесения и хранения информации
Гаж – веселье, пирушка
Книга первая.
Омоль йором (Карающая рука Омоля)
"Ен сотворил и ветер, но Омоль выпустил его на волю, и тот стал ломать дома, разметывать стога и валить деревья".
Мифы финно-угров
Часть I. Загадочные двойники. 1989, 1905-06 гг.
Подслушивающая «изумрудина»
Странного вида старичок шествовал по широкой, похожей на проспект, шумной Коммунистической улице провинциальной столицы. Если бы кто-нибудь из местных жителей внимательно присмотрелся к нему, то решил бы, что он либо инопланетянин, неудачно воплотившийся в современного человека, либо представитель какого-то иного, уже вымершего рода людей, типа неандертальца. Правда, неандертальцы хоть и были такими же невысокими, как этот дедушка, но имели массивное телосложение и большую, по-звериному вытянутую голову. А у этого человечка голова вполне соответствовала маленькому телу. Вот только морщинистый, непропорционально высокий лоб, удлиненный нос и впалые матово-белесые глаза говорили о каком-то не совсем человечьем происхождении. Редкие седые волосы выдавали его преклонный возраст, хотя одет он был по молодежной моде – потертые джинсы и белая рубаха навыпуск с синими, как у матросов, полосками.
Однако изнывающие от непривычного для северян зноя сыктывкарцы старичка не замечали. В этот июльский день свежий ветер перестройки никак не сказывался на погоде. К тому же здешние люди вообще перестали чему-либо удивляться. Еще недавно им внушали, что Бога нет, зато когда-нибудь, лет через двадцать, или чуть более, наступит коммунизм. Теперь же выяснялось, что коммунизм не наступит никогда, зато верить в Бога советская пока еще власть милостиво разрешила.
Не обращая внимания на палящее солнце, старичок подошел к элегантной конструктивистской каменной коробке с большой надписью «Коми пединститут», остановился возле крыльца под большим навесом и приподнял правую руку, на безымянном пальчике которой виднелось кольцо с ярко зеленым камнем, похожим на изумруд. Своими серовато-белыми глазами он вперился в стоящее чуть левее на другой стороне улицы серое шестиэтажное здание Института языка, литературы и истории Коми филиала Академии наук СССР. А свою правую руку старичок принялся медленно поворачивать так, чтобы невидимый луч от «изумруда» двигался по удлиненным окнам научного учреждения. И в это время камень зазвучал:
– ...ну-у, нет. В такую жару работать невозможно. Надо кондиционер ставить.
– Ишь чего захотел! Не растаешь, ты же не мороженое.
Эти голоса исходили через окно от одного кабинета, но старичка они не заинтересовали. И он двинулся дальше. Целый ряд окон молчал. В других обсуждали предстоящий отпуск, где-то – статью по этнографии в научном журнале. Внимание человечка привлек только один диалог:
– …и все-таки, Паша, ты решил взяться за Питирима Сорокина?
– Да решил.
– А знаешь: правильно. Куй железо пока Горбачев, и «в долгий путь на долгие года»!
– Хорошее название для этой книги – «Долгий путь».
– Да? А я думал «A Long Journey» – это «Дальняя дорога».
– Это прямой перевод. Сам Питирим называл ее именно «Долгий путь». [i]
– Ты уверен?
– Конечно. А как еще можно назвать свою автобиографию? «Дальняя дорога» – это расстояние. А «Долгий путь» – тут и длина пути, и время. И как бы цель обозначена.
– Может ты и прав. Завидую тебе: будешь первооткрывателем.
– А вот если этот проект закроют, то буду первозакрывателем…
– Не дрейфь, старина. Прорвемся! Увидишь, именем Питирима Сорокина еще университет назовут.
– Ну, ты загнул…
Старичок улыбнулся, вздохнул, сожалея, что нашел не то, что нужно, и принялся шарить по другим окнам. Результат его не устроил, и он опустил правую руку, решив продолжить поиски в других местах, но в это время из «изумрудины» раздался голос, заставивший его насторожиться:
– …и кому нужна ваша гласность, если ты не можешь опубликовать статью о всего лишь древней истории? Здесь нет никакой политики, это не более чем научная версия.
– Это для тебя научная версия, – возражал другой голос, который при этом постоянно шмыгал носом, хотя и непонятно, как он умудрился в жару подхватить насморк. – А после заметки о твоих изысканиях был звоночек из обкома. Хрмс-хрмс. Сказали, что противоречит твоя гипотеза научным фактам, марксистко-ленинскому пониманию истории, и, более того, все это, мол, твои фантазии и вражеская диверсия.
Судя по направлению невидимого луча, собеседники находились в сквере, расположенном также напротив пединститута, только правее научных учреждений. Зной на этой территории сливался с пламенем Вечного огня возле скульптурной композиции в виде трех бронзовых женщин, держащих в руках увитую лентами кедровую ветвь.

Подслушивать разговор дальше старичок не смог, что-то в «изумрудине» зашуршало, влились другие голоса, но и услышанного ему оказалось вполне достаточным, чтобы определить местонахождение собеседников. И человечек двинулся прямо по направлению к Вечному огню, возле которого разворачивалось непривычное для тихого города действо. В центре площадки молодые люди устанавливали микрофон, а чуть правее поставили фанерный баннер с большой надписью «Мемориал» и с изображением свечи, увитой колючей проволокой. На левом фланге стоял стенд с большой картой города и заголовком «ГУЛАГ в Сыктывкаре». Возле него уже столпилось полтора десятка пытливых горожан.
Старичок не удержался от любопытства и задержался на минутку возле стенда. Судя по разговорам, сыктывкарцев более всего удивляли концлагерь на месте большого спортивного стадиона и аэропорт, на территории которого когда-то расстреливали ни в чем неповинных людей.
Отойдя от стенда и миновав Вечный огонь, загадочный человечек без труда нашел тех, кого искал. Это были два относительно молодых человека, расположившихся на скамейке, подверженной воздействию прямых солнечных лучей. Они отчаянно спорили, при этом им не мешал ни зной и ни местные прорабы перестройки. Старичок как бы невзначай уселся на ту же скамью, но на некотором расстоянии, получив таким образом возможность подслушивать их разговор без «изумрудины».
– Что ты заладил: звоночки да звоночки? Неужели непонятно, что это дело рук Кочева? Мои работы идут поперек его докторской, а он же у нас партийный! – кипятился тот, что был пониже ростом, слегка полноватым, но с тонкими чертами лица.
– А чего ты добиваешься, Юра? – устало ответил больной насморком высокий собеседник, доставая из кармана платок. Но, прежде чем высморкаться, он вытер пот со лба. – Чтобы меня погнали с должности? И потом, кому сейчас твоя чудь интересна? Читателю нужны другие неизвестные страницы истории, желательно недавней – кого убили в Афгане, кто из великих людей сидел у нас при Сталине. Или о влиянии ядерных испытаний на Новой земле на жизнь оленеводов. Кстати, за одну такую статью меня уже вызывали на ковер. Сказали, что еще одна подобная публикация и пойдешь работать экскурсоводом в музей на восемьдесят рублей в месяц. А за твою статью о чуди погонят стопроцентно. И потом, хрмс-хрмс, ты извини, конечно, но я как-то и сам не уверен, что твоя версия может быть правдой. Слишком невероятно. Целый народ ушел под землю и живет там до сих пор. Никем не обнаруженный. Чепуха какая-то!
И тут он умолк, обнаружив, что на скамейке их уже трое. Старичок сидел вроде бы безучастно, но чутье подсказывало, что он все слышит и даже понимает, о чем говорят собеседники. Только Юрий старичка не замечал и продолжал:
– Леня, я же тебе все уже объяснил. О народе чудь, о том, что они ушли под землю и странным образом исчезли, свидетельствуют многочисленные предания. Легенды и мифы, как правило, отражают реальность. Взять хотя бы библейский миф о всемирном потопе. О нем не только Библия свидетельствует, но и шумерские сказания, и эпос о Гильгамеше. А сейчас уже геологи говорят, что – да было такое. Также и с чудью белоглазой. Она и у коми, и у мордвы, и у русских встречается. Я имею в виду предания, конечно. К тому же я тебе показывал артефакты. Как их объяснить? Да, в это трудно поверить, однако, я уверен, белоглазая чудь – это не выдумка. Был такой народ, который спрятался под землей, чтобы не принимать христианскую веру. И вполне вероятно, что этот народ до сих пор обитает именно там.
Тут и Юрий замолчал, заметив, что его друг глядит куда-то мимо него. Оглянувшись, он увидел старичка, который понял, что прервал спор, и заговорил:
– Знаете, любезные… Прошу покорнейше меня простить, что вмешиваюсь. Но хочу сказать вам, что вы оба правы. Статейку про чудь писать ни в коем случае не следует. Ни в коем случае. Доказательств, знаете ли, маловато… Но этот народ, как вы верно заметили, жив, здравствует на земле и под землей. Больше, конечно, под землей.
– А вы кто, собственно, будете? – прервал старичка Леонид.
– Ой-ей-ей, ей-ей! Забыл представиться. Еще раз прошу покорнейше извинить. Дмитрий Александрович Календер, – старичок приподнялся и слегка наклонил голову. – А вам представляться не следует. Я просто счастлив видеть перед собой блестящего ученого, будущую звезду археологии и этнографии Юрия Олеговича Лукина и талантливейшего журналиста и главного редактора Леонида Серафимовича Хлестова.
Молодые люди несколько оторопели от столь от нескрываемой лести, а Дмитрий Александрович, между тем, продолжал:
– Не извольте беспокоиться, никакой мистики. О вас я знаю из вашей же газеты. Вот она – заметка Леонида Серафимовича о многострадальных оленеводах, натерпевшихся от ядерных взрывов на Новой земле.
С этими словами старичок достал из внутреннего кармана пиджака изрядно помятый номер местной газеты и развернул его на первой странице, продемонстрировав ту самую заметку.
– А касательно вас, Юрий Олегович, то тут даже проще, – продолжил Календер. – Я знавал вашего батюшку Олега Александровича и даже вашего дедушку Александра Георгиевича. А вас лично, Юрий Олегович, я видел только один раз и только по телевизору. Вы говорили, если мне память не изменяет, о Степане Храпе…
– Стефане Пермском, – поправил старичка изумленный Лукин, уже позабывший про свою несостоявшуюся газетную публикацию.
– Да-да, конечно, – согласился старичок. – Том самом Стефане, что крестил коми людей, из-за чего «чудь белоглазая», как вы ее называете, вынуждена была спрятаться под землю. Они, вы верно заметили, не захотели принять Христа и верили в Омуля и Ена, что вам, разумеется, известно.
– Ну, да, да, – нетерпеливо подтвердил Юрий Олегович, обрадовавшись, что нашел наконец-таки хоть одного союзника. – Так вы со мной согласны?
– Как же я могу быть несогласным, ежели я сам плоть от плоти того народа?
Такое признание молнией поразило обоих мужчин. Они пристально вгляделись в лицо старичка, обнаружив его поразительную инаковость. Календер, между тем, продолжал говорить, как ни в чем ни бывало:
– Вам тогда, на телевидении, так и не дали рассказать про ваши удивительные открытия. И, знаете ли, слава Богу! Для верхних людей еще не пришло время знать про нижних. Но вы, Юрий Олегович, да и вы, Леонид Серафимович, вне всякого сомнения, составляете исключение. Я долго искал вас, и вот, наконец, нашел. Оба ваши родителя, Юрий Олегович, знали правду, теперь, видимо, пришел и ваш черед. Любезного господина-товарища Лукина это касается в первую очередь. Нет вовсе не потому, что он сам близок к открытию. Дело, понимаете ли, в том, что еще ваш дедушка… Вы что-нибудь знаете про него?
– Совсем мало, – промолвил растерявшийся Лукин. – Знаю, что он умер еще в гражданскую войну.
– Это, положим, не совсем так. Или даже совсем не так. Но это неважно. Я ему, знаете ли, два раза жизнь спасал. А значит, хе-хе, и вам тоже. Не будь этого – не родился бы ваш батюшка, а, значит, и вы сами не увидели бы этого света.
– Когда ж это было? – выдавил из себя Лукин.
– Довольно давно. В первый раз – аж в тысяча девятьсот пятом году. Нет-нет, вы только ничего такого не подумайте: я не Агасфер и не Мафусаил. Я такой же смертный, как и вы. Только вот, как и мои собратья, тяну эту лямку жизни очень долго. А тогда, в тысяча девятьсот пятом году, был молод. А ваш дедушка Александр Георгиевич был и того моложе. В вашей и нашей болезной России в тот славный год многое начало меняться. Как сейчас любят говорить, задул ветер перемен. Только был он, этот ветер, не таким теплым, как ныне. Скорее, студеным, почти ледяным. Впрочем, для холодного Петербурга, это даже нормально. Как раз в эти годы случилась игра с двойником человека, которого убили господа-товарищи революционеры.
Студеный ветер перемен
Студеный октябрьский ветер с Невы гонял по Летнему саду пожухлые листья и не предвещал ничего хорошего. Даже величественные каменные боги и богини выглядели в темноте уныло, а холодный влажный воздух продирал до костей, вызывая озноб.

Молодой человек в очках и шляпе дрожал, сидя на скамейке, как последний еще не слетевший с дерева осенний лист. Дрожал не столько от промозглости и ветра – на скверную погоду он вообще не обращал никакого внимания – сколько от волнения. Двумя трясущимися руками он сжимал холодный револьвер, пытаясь пристроить его к виску, но ствол постоянно уходил куда-то в сторону. Тогда он решительно поменял направление предполагаемого выстрела, засунув оружие прямо в рот. Но дрожащий ствол принялся стучать по верхним и нижним зубам, никак не давая молодому человеку произвести первый и последний в его жизни выстрел. Промозглый ветер и инстинкт самосохранения, как бы объединившись, спасали молодую жизнь.
Выругав себя за нерешительность, молодой человек закрыл глаза, крепко сжал зубами ствол и, набрав, как ему казалось, в последний раз воздуха в легкие, нажал на курок.
Однако выстрела не последовало. И нажатия на курок тоже. Палец застыл ровно на том месте, после которого курок запускает в маленьком оружии механизм смерти. Причем застыл не только палец. У молодого человека парализовало все тело, да так, что и холода он не чувствовал. Ничего не чувствовал, но при этом все видел и слышал. Хотя ничего не понимал.
А услышал он сквозь ветер сзади себя шаги неизвестного человека. И почти сразу увидел его самого. Маленького роста уродец, одетый по последней моде в темно синий блейзер с большим отворотом и котелком на голове, с выпирающим горбатым носом и странными матово белесыми глазами. Поигрывая тросточкой, он обошел сидящего на скамейке молодого человека, внимательно всмотрелся в его лицо и аккуратненько вытащил из застывших пальцев так и не сработавшее оружие. Несостоявшемуся самоубийце сразу бросился в глаза странный перстень с ярко зеленым камнем похожим на изумруд и трость с ручкой в виде лежачего медведя.
– Я тут, знаете ли, подумал, господин Лукин, что вам еще рано прощаться с жизнью, – ласковым голосом произнес модно одетый уродец, пряча револьвер в свой карман.
– Что вам от меня надо, любезный? – пробормотал Лукин, который неожиданно освободился от паралича сразу после того, как из его рта и рук было вынуто оружие.
– Любезный! – восторженно повторил уродец. – Какое замечательное русское слово «любезный». Оно, видимо, означает человека, который оказывает любезность. Так вот это я и есть. Я решил оказать вам любезность и спасти вашу жизнь.
– От кого?
– От вас же, от кого же еще? – странный тип явно любил поговорить. – Вы ведь из-за чего решили с жизнью распроститься? Из-за пустяков. Продулись в карты. Сумма-то ничтожная. Молчите, молчите. Знаю, что для вас это неподъемный долг. Поэтому я вам окажу еще одну любезность. Вот вам вся сумма долга.
С этими словами спаситель аккуратно, как и вынимал оружие из рук несостоявшегося самоубийцы, засунул в карман дешевого шерстяного пальто несколько сотенных купюр.
– С чего вы решили, что я решил уйти из-за карточного долга? – вдруг закричал Лукин. – И, вообще, кто вы такой?!
– Меня зовут Дмитрий Александрович Календер. А если вы решили уйти не из-за карточного долга, а в результате несчастной любви, то и это, знаете ли, не повод. Женщины коварны, любят, когда из-за них стреляются, но не стоит доставлять им такой радости…
– Ничего вы не понимаете, Календер, – грубо оборвал Лукин своего спасителя. – Я решил уйти потому, что Россия гибнет. И я вместе с ней.
– Боже мой, боже мой… Россия только и делает, что гибнет. И в этом смысл ее жизни.
Но дальше философствование пришлось прервать. Послышался шум и вдали темной аллеи показались три человеческие фигуры.
– Прошу меня любезно извинить, но мне, кажется, пора. Прощайте! И больше не уходите из жизни, прошу вас. Меня может не оказаться рядом.
Календер растворился в темноте, а три фигуры – одна мужская и две женские – вскоре оказались рядом с Лукиным. Высокий молодой мужчина в котелке и дорогом драповом пальто обнимал дам, одетых в легкие шубки поверх платьев, при этом он умудрялся держать в правой руке шампанское, а в левой два хрустальных бокала.
– Сашка! Лукин! Черт возьми, наконец-то я тебя нашел, – хмельным голосом закричал мужчина, не выпуская дам и шампанское с бокалами из рук. – Куда, ну куда ты исчез? Я тебя битый час разыскиваю.
Лукин с тоской посмотрел на приятеля и сразу догадался, что «разыскивал» он его в ближайшем борделе, откуда вышел с девицами и шампанским.
– Кстати, познакомься, – угадал мысли шикарный мужчина. – Это Диана, а это Любочка. Выбирай любую, одна из них – твоя.
С этими словами он поцеловал каждую из них в щечку. А Лукин вместо ответа полез в карман пальто, вытащил сотенные купюры, подаренные неизвестным уродцем, и молча протянул их своему приятелю.
– Это что, за девку что ли? – брезгливо поморщился мужчина, который взять деньги не мог хотя бы потому, что руки были заняты шампанским, бокалами и проститутками.
– Карточный долг, господин Бреславский, – пояснил Лукин.
– А-а! Вот в чем дело! – воскликнул мужчина и, наконец, отпустил дам, а шампанское с бокалами поставил на скамейку возле Лукина. – Сашка, друг мой любезный! Я тебе прощаю долг. Сегодня такой день, что я прощаю всем и все. Сегодня великий день, запомни его!
– Что его помнить, день как день, – Лукин напряг свою память, пытаясь вспомнить сегодняшнюю дату. – Обыкновенный день, семнадцатое октября тысяча девятьсот пятого года.
– Вот именно! До сегодняшнего дня это был обыкновенный день. Но с сегодняшнего дня – необыкновенный. Поверь мне, семнадцатое октября две тысячи пятого года будут отмечать столетие сегодняшнего дня, и это будет самой грандиозный праздник в России.
Дамы захихикали, а Лукин продолжал с недоумением смотреть на приятеля.
– Так ты ничего не знаешь? – воскликнул Бреславский и вместо пояснения полез в свои внутренние карманы и достал оттуда изрядно помятые «Петербургские вести». – Читай.
– Что это? – спросил Лукин, не имевший возможности сквозь запотевшие очки прочитать газету.
– Высочайший манифест. Нам дарованы неприкосновенность личности, свобода совести, свобода слова, свобода собраний и союзов. У нас будет все то, о чем мечтали мои предки декабристы по материнской линии и поляки по отцовской. И мы с тобой тоже мечтали. Кстати, с сегодняшнего дня и ты и я, а также Диана с Любочкой – свободные граждане свободной России. Правда, девочки?
Бреславский прижал девок к себе, затем отпустил их и принялся откупоривать шампанское. Лукин близорукими глазами впился в текст царского манифеста, моментально позабыв обо всем, что произошло еще несколько минут назад. Протерев очки, он полушепотом произносил прочитанное: «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо Российского государя неразрывно с благом народным, и печаль народная — его печаль».
– Оторвись от газеты, Сашка! Еще начитаешься, – Бреславский протянул Лукину бокал с шипучим «Силлери Империал». – Выпьем за великую и свободную Россию. Хоть и я поляк по отцу, но я всегда любил и буду любить нашу несчастную Родину.
Лукин, чтобы взять бокал, невольно выпустил газету из рук, а ветер моментально подхватил ее, и понесло «Петербургские вести» по аллее осеннего Летнего сада вместе с Высочайшим манифестом, провозгласившем всяческие свободы, куда-то в темноту.
Из темноты
– Эк, как вас понесло, господин сочинитель, – ухмыльнулся Лопухин, выслушав монолог журналиста «Петербургских вестей» Николая Брачишникова. – Выходит, по-вашему, жив фон Плеве?
– Никак такого быть не может, ваше превосходительство, – ответил журналист. – Я лично видел труп его превосходительства, да будет Царствие ему небесное. Разорванный труп. Но не узнать министра внутренних дел даже в таком виде невозможно. Вы же знаете нашего брата журналиста, мы всегда оказываемся в нужное время в нужном месте. Вот и я в тот злосчастный день пятнадцатого июля прошлого года шел по Измайловскому проспекту, услышал взрыв и самолично наблюдал, что творилось возле кареты Владимира Константиновича. Истинный крест, злодеи добились своего, убили барона.
– А потом он воскрес подобно Господу нашему и, как вы пишите в вашей газетке, явился сначала к жене убитого извергами уфимского губернатора Богдановича, затем к кишиневским евреям – просить прощения за погромы, которые он не предотвратил. И еще к кому там?
– Еще его видел, хорошо вам знакомый Сергей Григорьевич Коваленский. Причем в тот день и час, когда карета господина Плеве неслась на всех парах по Измайловскому проспекту навстречу смерти. Не мог же министр одновременно ехать в карете и находиться в кабинете своего подчиненного? Ему-то, я имею в виду Сергея Григорьевича, вы, ваше превосходительство, не можете не верить…
– Милейший Николай Петрович, прошу вас, не называйте меня ваше превосходительство, – перебил журналиста Лопухин. – Вы же знаете, что я уже не директор департамента полиции. А на днях меня и с должности Эстляндского губернатора погнали. Уволен за попустительство революционному движению.
– Простите, ваше превосхо…, извините, Александр Александрович, привычка. Но я продолжу. Фон Плеве, безусловно, убит. А являлся ко всем означенным личностям его двойник. Иначе объяснить это загадочное явление просто невозможно.
– Ладно, господин литератор, я уже убедился в безмерности вашей богатейшей фантазии. Давайте лучше выпьем водочки и помянем незабвенного барона фон Плеве. – С этими словами Лопухин самолично налил «Смирновской» себе и Брачишникову, не чокаясь выпил до дна и закусил ароматной и еще не остывшей стерляжьей ушицей.
Лопухин вовремя оборвал разговор. На сцену кафешантана «Аквариум», в глубине которого сидели бывший шеф жандармов и подающий надежды журналист, приостановились цыганские пляски и конферансье с некоторой долей торжественности объявил: «Выступает несравненная мадам Херо!».
Раздались овации, Лопухин, пришедший сюда ради того, чтобы послушать любимую певицу, развернулся на стуле и тут же забыл обо всем на свете. Забыл, что в стране террор, и что он уволен со службы из-за того, что не доглядел и допустил убийство своего начальника министра фон Плеве и великого князя Сергея Александровича Романова. Забыл и про своего спутника Брачишникова, пригласившего Лопухина в ресторан для очень важного разговора.
Очень важный разговор явно не клеился, но Брачишников не обижался. Он сидел лицом к сцене и внимал вышедшей из темноты на сцену черноокой и жгуче черноволосой мадам Херо с не меньшим удовольствием, чем его собеседник.
Невысокий изящный тапер в черном фраке ударил по клавишам, и после музыкального вступления мадам Херо запела своим обволакивающим голосом:
Белой акации гроздья душистые,
Вновь аромата полны,
И разливается песнь соловьиная
В тихом сиянье, сиянье луны.
На этом втором «сиянье» мадам Херо взяла очень высокую ноту и держала ее несколько секунд, так что у слушателей перехватило дыханье. Сама же певица успела перенастроить свой дыхательный аппарат за то время, пока пианист играл проигрыш, затем она обратилась в зал как бы к невидимому любовнику, призывая вспомнить то время, когда они под белой акацией слушали песнь соловья, и она страстно шептала: «Навеки твоя…» После второго куплета мадам Херо обвела своими черными глазами весь зал, обращаясь к каждому мужчине, сидевшему за столиками, пропела:
Годы давно прошли, страсти остыли…
Молодость жизни прошла…
Белой акации запаха нежного
Мне не забыть, не забыть никогда.
После последнего аккорда зал молчал секунды две, но затем взорвался такими аплодисментами и криками «браво», что, если бы здесь в зале террористы устроили пальбу или взорвали бомбу, этого бы никто не услышал. Певицу долго не отпускали, она спела еще несколько романсов, в завершении повторила свою коронную «Белой акации гроздья душистые» и быстро ушла куда-то вглубь, назад, в темноту. Ей на смену выскочили разодетые девицы и с визгом принялись исполнять канкан.
Лопухин отхлебнул еще водочки и принялся за горячие блюда. Брачишников воспользовался паузой и вновь заговорил:
– Появление двойников убиенного фон Плеве – это еще не самое загадочное в этой истории, ваше прев…, простите, Александр Александрович. Самое удивительное то, что у бомбистов не могло быть бомбы такой силы, чтобы разорвать карету.
– Это почему же? – Лопухину явно не хотелось отвлекаться от еды и ворошить недавнее прошлое.
– А вспомните-ка, Александр Александрович, про второго метальщика еврея Сикорского. Он свою бомбу бросил в Неву, дабы скрыть следы своего участия. Ее через несколько дней нашли. И что же показала экспертиза? Заряд бомбы оказался незначительным, неспособным на взрыв такой силы.
– Ну, это я, положим, лучше вас знаю, – продолжал жевать свой бефстроганов отставной директор департамента полиции.
– Ничуть не сомневаюсь, Александр Александрович. Сам Сикорский показал, что он был запасным метальщиком, поэтому у него и бомбочка пожиже. Только ведь тут есть три неувязочки. Неувязочка первая: зачем давать запасному метальщику маленькую бомбу, если ею все равно убить министра не удастся? Вторая неувязочка: не придумали еще люди, вернее сказать, нелюди, злодеи, такой бомбы, чтобы произвести взрыв столь большой мощности. Да-да, не придумали. Я внимательнейшим образом прочитал множество газет с описанием всевозможных террористических актов и всяческих адских машин. Они все послабее будут. Кстати, террорист Иван Каляев, дыбы убить незабвенного Сергея Александровича, свою бомбу кинул во внутрь кареты. Обратите внимание: во внутрь, а не под колеса, как это сделал Созонов… И все потому, что бомба Каляева была не такой силы. Если бы он бросил ее под колеса, жив бы остались его сиятельство. И вы бы по-прежнему вполне заслуженно занимали пост директора департамента полиции…
– Вы что-то говорили про третью неувязочку, – перебил вновь разговорившегося журналиста Лопухин, не любивший, когда ему напоминали о его незаслуженной отставке.
– А третья неувязочка очень простая. Я даже не знаю, как про нее никто не подумал. Террорист Созонов вместе с бомбой бросается под колеса кареты. Бомба разрывается, карету в щепки, министр погибает на месте, а бомбист остается жив. Ранение, конечно, получает – все, кто рядом оказались, получили увечья, – но ведь живым выходит из этой истории.
– И каков же вывод из всего этого? – спросил Лопухин, желая поскорее закончить разглагольствования журналиста с богатой фантазией.
– А вывод таков: всем этим бомбистам, социалистам, террористам помогает какая-то иная цивилизация, – перегнувшись через стол, внятно прошептал Брачишников почти на ухо бывшему шефу жандармов.
– Что-о-о?
– Не верите? А как тогда объяснить взрыв небывалой мощности, убившей господина Плеве, появление его двойников после смерти и, наконец, чудесное спасение убийцы, который преспокойно сидит в Шлиссельбургской тюрьме, но его почему-то никто не допрашивает? Никто не хочет докопаться до истины.
– И только вы один, значит, хотите? – съязвил Лопухин.
– Хочу. И вы мне должны помочь. Если правительство не может или не хочет по-настоящему бороться с террором, то этим должны заняться мы с вами.
Лопухин тяжело вздохнул, аккуратно вытер салфеткой рот и свои шикарные усы, подозвал официанта и, несмотря на протесты Брачишникова, сам расплатился за ужин на двоих. После чего, не спеша, поднялся из-за стола и многозначительно произнес:
– Вы не поверите, господин литератор, но я уже почти сочувствую террористам. У них, по крайней мере, цель в жизни есть. Поэтому они и умирать не боятся. А я после отставки живу без всякой цели, а власть нынешняя мне решительно не нравится. И спасать ее от бомбистов я не намерен. Благодарю вас за приглашение и прекрасно проведенный вечер.
С этими словами отставной полицейский вышел вон.
Брачишников не спеша отхлебнул водки и через несколько минут также покинул кафешантан.
Значит союзников в моей борьбе с террористами у меня нет и не будет, с грустью размышлял журналист «Петербургских вестей». Полиция не в счет – слабаки. Ну, ничего. Я сам поведу расследование. Первым делом надо бы встретиться с Абрамом Зиедонисом. Это ведь к нему в Кишиневе являлся двойник министра Плеве. В редакции мне кто-то сказал, что Зиедонис находится в Петербурге. А это значит, что от меня он не уйдет.
Петербургские похождения Зиедониса
– Не переживай, Дора, в любом случае он от меня не уйдет, – шепнул Зиедонис низкорослой черноволосой девушке.
Они выглядели одинокой загулявшей парочкой на пустынном ночном Каменном острове, при появлении городового принимались усиленно целоваться, хотя самим было не до любовных лобзаний. Они не сводили глаз с Большого проспекта, на котором в любую минуту могла появиться карета Великого князя Михаила Александровича. Младший брат императора любил погулять в ресторанах и кафешантанах, и его экипаж наблюдатели Боевой организации партии социалистов-революционеров видели возле «Аквариума». В два часа ночи он обычно покидал кафешантан и ехал в сторону Литейного моста. Сегодня должно было свершиться событие, призванное затмить все громкие теракты последних лет – на родного брата царя в юном двадцатом веке еще никто не покушался. Великий князь был обречен.
Томительное ожидание террористов длилось недолго. По Большому проспекту зацокали лошади, и обладающий великолепным зрением Зиедонис быстро определил, что везут они ту самую карету.
– Прощай, Дора, – Зиедонис поцеловал подругу в лоб.
– Прощай, Абрам, – бесстрастно ответила Дора.
– Федор, – поправил ее Зиедонис.
– Ну, хорошо, давай, Федор, действуй.
Дора подтолкнула своего спутника, и он, выхватив из кармана наган, выбежал навстречу судьбе. В голове стучала одна мысль: «Только бы великий князь оказался там, только бы не случилось осечки». Запрыгнув на ступеньку кареты, Зиедонис испытал некоторое облегчение: проносящиеся мимо огни ночных фонарей осветили лицо человека не старше тридцати лет с усами и короткой стрижкой. Сомнений быть не могло – это Михаил, младший брат царя. Рядом с ним сидела женщина в роскошном манто. Зиедонис успел подумать, что был прав, когда отказался от бомбы – погибла бы невинная душа, просунул правую руку и голову в окошко кареты, приставил наган к груди великого князя и нажал на курок.
Раздался выстрел, но пуля почему-то угодила не в сердце Михаила Александровича, а пробила обшивку кареты. Рука Зиедониса в последний момент самопроизвольно дернулась куда-то вверх. Великий князь воспользовался неудачей и оттолкнул незадачливого террориста.
Зиедонис упал на каменную мостовую. До его ушей донесся откуда-то издалека свисток городового. Теперь он не знал, что делать. В случае удачи, Зиедонис должен был сдаться жандармам, но на допросах не выдать никого из своих товарищей, как и поступили его предшественники Созонов и Каляев. А в случае неудачи? По этому поводу никаких указаний ему не было дано. Нужно ли погибать, если дело не сделано?
Решение это задачки пришло само собой. В самое ухо Зиедонису кто-то шепнул: «Бежим, любезный!». Тут же крепкая мужская рука схватил правую кисть несостоявшегося убийцы, помогла ему подняться, и они оба побежали в глубину каменоостровских домов.
Странный человечек ловко уводил Зиедониса от полиции. Однако городовые оказались хитрее. Они постоянно появлялись в том месте, которое беглецам казалось совершенно безопасным. В какой-то момент Зиедонису показалось, что его спутник – ловкий филер, намеренный сдать его жандармам, поскольку маршрут их бегства был весьма своеобразным. Они то уходили от полиции, то неслись прямо к ним.
Возле большого каменного дома, видя подбегающих городовых, Зиедонис решительно дернул правую руку, все еще державшую наган, с твердым намерением освободиться от спасителя и начать отстреливаться от жандармов. Однако у незнакомца хватка оказалась крепкой. Он не только не отпустил руку Зиедониса, но и сумел вырвать из нее оружие, затем резким движением выгнул средний палец, надел на него непонятное кольцо с ярким изумрудом и со всей своей могучей силой толкнул террориста в сторону стены.
Зиедонис ничего не успел сообразить. По логике вещей он должен был разбить лоб об стену, но вместо этого он странным образом пролетел сквозь нее и оказался в небольшом хорошо освещенном полуподвальном помещении. А поскольку комната располагалась ниже уровня земли, то ввалился в нее сверху, нелепо распластавшись прямо на полу.
Опять кто-то помог ему – на этот раз подняться. Зиедонис потер дважды ушибленные ноги, осмотрелся и горько пожалел, что остался жив, что не погиб от пули городового, не пустил сам себе пулю в лоб, наконец, не разбился об стену. В комнате находились его товарищи по борьбе – маленькая черноволосая Дора Бриллиант, серьезный и задумчивый Вениамин и толстый человек в очках с неприятным лицом. Пока Зиедонис осматривался, в комнату тихо вошел некрасивый человечек в распахнутом щеголеватом полушубке, из-под которого виднелся модный темно синий пиджак с большим отворотом и черный галстук с белыми крапинками.
Зиедонис не знал, что сказать, как объяснить провал операции, которую вся БО готовила несколько месяцев. Он понимал, что не заслуживает прощения и готовился к самому худшему. Но объясняться ему не пришлось. Первым заговорил Вениамин, помогавший подняться Зиедонису:
– Поздравляю вас, Федор Моисеевич, вы все сделали на отлично.
– Спасибо, товарищ Вениамин. Но поздравлять не с чем.
– Теперь я могу вам представиться. Меня зовут Борис Савинков.
– Я подтверждаю, Иван Николаевич и Борис Викторович, что Абрам, вернее, Федор Зиедонис справился с заданием, вел себя мужественно и честно, – холодным голосом произнесла Дора Бриллиант.
Тут Зиедонис понял, что невысокий толстый человек – сам Иван Николаевич – руководитель Боевой организации. Поэтому Федор-Абрам обратился прямо к нему:
– Меня не с чем поздравлять. Я не выполнил задание – великий князь жив.
– И пусть себе живет, – ленивым голосом проговорил Иван Николаевич, развалившись в стареньком кресле. – Он для нас не представляет никакого интереса. Великий князь не сделал ничего дурного, и его смерть не прибавила бы авторитета партии.
– Извини, Федя, это была всего лишь проверка, – сказал Савинков и усадил Зиедониса за стол, уставленный дорогим красным вином и закусками.
Савинков разлил вино по бокалам и уже собирался сказать тост, но его перебил маленький щеголеватый незнакомец:
– Любезный, перстень, пожалуйста, верните.
С этими словами он подошел к Зиедонису и снял с его среднего пальца правой руки кольцо с камнем, похожим на изумруд, о котором сам Федор-Абрам уже успел позабыть.
Зиедонис хотел было спросить, что это за странный незнакомец, спасший его от жандармов, но не успел. Подняв бокал, слово взял Иван Николаевич:
– Друзья мои, мы пока не будем пить за нашего товарища Зиедониса, блестяще выдержавшего первое испытание, ибо главное испытание ему еще предстоит. Я счастлив объявить вам о решении центрального комитета нашей партии о переходе к центральному террору.
Присутствующие затаили дыхание. «Центральным террором» эсеры называли убийство царя. Это было давней мечтой террористического братства, особенно после кровавых событий 9 января. Проблема, однако, состояла в том, что после гибели дедушки Николая Кровавого от рук народовольцев – кумиров нынешних социалистов – личность императорской особы тщательно охранялась, и одна попытка покончить с самодержцем у боевиков уже провалилась. Нужны были самые неординарные решения.
– Я приветствую и полностью поддерживаю решение ЦК. Готов включиться и убежден, что необыкновенные способности товарища Календера нам в этом деле пригодятся как никогда, – произнес с несвойственной ему торжественностью Борис Савинков, кивнув в сторону щеголеватого маленького уродца с матово белесыми глазами. – Я давно говорил, что нужно использовать его кольцо, позволяющее ему проходить сквозь стены.
– Боря, дорогой мой, пройти сквозь стены Зимнего дворца и прикончить Николашку в его собственной спальне – это пошло, – возразил Иван Николаевич. – Премьер Витте представит дело так, будто император ушел в мир иной от болезни, или наевшись грибков, как было с незабвенным Павлом Петровичем. И что? Царь умрет, а монархия продолжит свое жалкое существование. Мы с Дмитрием Александровичем Календером придумали нечто более хитрое и значительно более эффектное.
Эсеры мгновенно забыли про не выпитое вино, раздвинули закуски, а освободившееся пространство занял чертеж странного аппарата похожего на птицу – с крыльями и небольшим винтом впереди.
– Вы все, надеюсь, слышали о новейшем изобретении американцев Вильбура и Орвиля Райтов, – продолжил лекцию Иван Николаевич. – Эта штука называется аэроплан – аппарат тяжелее воздуха, способный, между тем, летать и преодолевать значительные расстояния. Мы с Дмитрием Александровичем его усовершенствовали. Я, как вы знаете, инженер, а Дмитрий Александрович вообще уникум. Именно он предложил оригинальную идею – взлетать не с лужайки, а с воды. Например, с Невы или Финского залива. Кроме того, в нашем аппарате не четыре крыла, как у мистеров Райтов, а только два, что делает его значительно маневренней. А, главное, человек, которому предстоит управлять аэропланом, будет не лежать, а сидеть. Это даст ему возможность не только вести машину, но и производить бомбометание. Вы понимаете, к чему я веду?
– Говоря, по правде, вериться с трудом, – меланхолично вымолвил Борис Савинков. – Неужели на этой птице можно будет подлететь к карете царя и на глазах толпы взорвать его к чертовой матери.
– Да, и мы сделаем это во время военного смотра прямо на Дворцовой площади, – подтвердил главный эсеровский боевик. – Это будет взрыв на всю страну. Монархии конец.
Все молчали. На глазах всегда холодной и невозмутимой Доры Бриллиант проступили слезы. Савинков заметил это и тихонько обнял боевую подругу. Первым нарушил молчание Зиедонис:
– Вы сказали, что я выдержал проверку. Поэтому решительным образом заявляю, что готов научиться управлять аэропланом и прошу доверить мне убийство царя.
– Ты угадал мои мысли, Федор, – Иван Николаевич самодовольно усмехнулся, почувствовав, что произвел на товарищей нужный эффект, не спеша закурил сигару и откинулся в своем кресле. – Только аппарат еще не построен. Нужны большие деньги и двигатель мощностью не менее пятидесяти лошадиных сил. Так что терпение, друзья мои, и еще раз терпение. И, разумеется, строжайшая секретность. У меня есть сведения, что в среду руководителей нашей партии затесался провокатор. Некто Бурцев, журналист по прозвищу «крысолов», сообщил мне, что располагает неопровержимыми доказательствами на этот счет. Кто провокатор – пока неизвестно. Знаю только, что среди вас его нет.
Савинков, Бриллиант и Зиедонис про себя облегченно вздохнули. Большего позора, чем подозрение в провокаторской деятельности, для террориста нельзя было придумать. Впрочем, Зиедонис, выдержавший проверку, был более спокоен, а потому бесстрастно смотрел прямо в глаза Ивану Николаевичу, чье лицо уже было окутано дымом от сигары. Чем-то ему этот человек решительно не нравился, только Зиедонис не мог сам себе объяснить – чем. Но в любом случае он был готов принять самое активное участие в убийстве царя.
– А вот скажите мне, Федор Моисеевич, – вновь заговорил Иван Николаевич, встретившись взглядом с Зиедонисом. – Вы крестились в православной вере и сменили имя только для того, чтобы беспрепятственно пересекать черту оседлости?
– Я не верю ни в какого Бога – ни в иудейского, ни христианского, – бесстрастно ответил Зиедонис. – И, если для интересов дела нужно будет, чтобы я стал магометанином, я стану магометанином.
– Но ведь вы же в Кишиневе во время погромов участвовали в отрядах еврейской самообороны и, говорят, неплохо себя показали, – продолжал допрос руководитель БО. – Не жалеете, что предали своих прежних товарищей?
– Я никого не предал. Мои бывшие товарищи стали сионистами, и многие уже отбыли в Палестину. Они ненавидят Россию за то, что им пришлось здесь претерпеть. И я их понимаю. Но меня не интересует Земля Обетованная. И к русским я отношусь хорошо. Погромщиков среди них немного, а в основном это темный народ, который надо выводить из темноты. Именно Россия должна стать Землей Обетованной, а не какая-то там Палестина. Поэтому я и вступил в партию социалистов-революционеров и готов отдать жизнь за революцию.
– Что ж, очень похвально, – произнес главный боевик, с удовольствием выпустив из сигары очередную порцию дыма. – Я проделал тот же путь, только значительно раньше вас. Для всех, кроме вас, не секрет, что Иван Николаевич – это мой партийный псевдоним. Зовут меня Евно Фишиевич Азеф. Мой отец был бедным ростовским евреем и таким же темным, как и русские крестьяне. Будем делать революцию вместе, и я несказанно рад, что к нам приходит такая вот молодежь.
Сказав это, Азеф отложил сигару, отхлебнул вина и неожиданно погрузился в глубокую задумчивость. Никто не знал, о чем размышлял их партийный начальник.
Размышления полицейского начальника
Действительный статский советник Эммануил Вуич задумчиво постучал по столу, опустил на минутку глаза, а затем, вперив взгляд в Брачишникова, с некоторой долей сарказма произнес:
– Давайте поразмыслим, господин репортер. Вот вы говорите – призрак явился жене покойного уфимского губернатора Богдановича.
– Не призрак, а двойник, ваше превосходительство, – уточнил журналист.
– Называйте как хотите. Только сами подумайте: разве можно доверять женщине?
– В каких-то случаях, наверно, можно.
– Хорошо, я скажу по-другому. Только не для печати, и в блокнот ваш мои слова прошу не записывать. Так вот, можно ли доверять влюбленной женщине? Не отвечайте, вы еще молоды, у вас опыта нет. А я уже шестой десяток разменял. И скажу вам не только как директор департамента полиции, но и как судья в совсем недавнем прошлом. Если в качестве свидетеля выступает влюбленная женщина, все ее показания можно сразу отбросить как недействительные. Я понятно выражаюсь?
– Не совсем, – теперь уже почему-то занервничал и Брачишников.
– Вы блокнотик отложили? Вот и хорошо, – продолжил полицейский начальник. – А теперь и карандашик отложите в сторону. То, что я вам скажу, в печать попасть не должно ни при каких обстоятельствах. Так вот, жена Николая Модестовича Богдановича была любовницей Вячеслава Константиновича Плеве. А мужа своего она не любила. Потому-то и явился к ней в своем посмертном обличии не Николай Модестович, а Вячеслав Константинович. Может он ей во сне приснился, а может это ее больные фантазии, но не было никакого призрака. Или двойника, как вы тут сами выразились. И, по нашим сведениям, бомбисты потому и выбрали своей жертвой бедного Богдановича – да будет ему царствие небесное – чтобы Плеве не очень-то их искал.
– Положим так, положим так, – не сдавался репортер. – Но ведь двойник Вячеслава Константиновича еще и Сергею Григорьевичу Коваленскому являлся. Вы же, простите меня ваше превосходительство, не станете утверждать, что он был женщиной.
Вуич невольно улыбнулся, поскольку речь зашла о его предшественнике на посту полицейского начальника. Того, как и Лопухина, сняли за то, что не усмирил стихию народного возмущения. Сменил Сергея Григорьевича бывший делопроизводитель Николай Гарин, которого вскоре постигла та же участь. И вот теперь это ненадежное кресло занял он, Эммануил Иванович Вуич. А уж он-то оправдает высочайшее доверие государя-императора и новоиспеченного министра внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина.
– Французы и в таких случаях говорят «Cherchez la femme!», – ответил Вуич. – И вы, господа репортеры, любите, чего греха таить, употреблять эту фразочку к месту и не к месту. В данном же случае она совершенно уместна. Так что ищите женщину, и найдете ее без труда.
– Кто же эта женщина?
– Опять же не для печати: это Ольга Ивановна Гулькевич-Глебовская, теща господина Коваленского. Весьма занятная дамочка, знаете ли. И с непомерной фантазией. Сергей Григорьевич мне лично рассказывал, что сказочку про призрак убиенного Плеве рассказала ему именно она. Сам Коваленский в это не верит. А вы, газетчики, зачем-то подхватили эту блажь, этот плод воображения бывшей светской львицы и разносите его по всей России…
– Но еще был некий Зиедонис…
– Вы имеете в виду этого кишиневского еврейчика? – на этот раз Вуич совершенно искреннее засмеялся, поскольку разговор потек в приятном для главного полицейского великой державы направлении. – Вот уж кому точно верить нельзя. Зиедонис – опасный террорист, я приказал установить за ним наблюдение. А слух этот пустил даже не он, а его соплеменники. Якобы призрак господина Плеве приходил к ним и просил прощение за якобы попустительство и даже организацию еврейских погромов. Однако начнем с того, что Вячеславу Константиновичу не за что извиняться. Уж кто-кто, а Плеве делал все возможное, чтобы в империи был порядок. И если бы он был таким юдофобом, как на суде над его убийцами пытался представить защитник бомбиста Сикорского, то стал бы Вячеслав Константинович встречаться с господином Герцлем? Да-да, тем самым, что звал всех евреев в Палестину. И уж, конечно же, не разрешил бы его сторонникам провести в Минске так называемый сионистский конгресс.
– Значит, эту легенду придумали кишиневские евреи, а Зиедонис ее домыслил и распространил в Петербурге?
– Не только он. Эта сказочка очень пригодилась социалистам, соратникам Зиедониса. Им же выгодно раздувать легенды о мнимом юдофобстве господина Плеве, дабы оправдать свои адские деяния. И чтобы не быть голословным, я обещаю лично вас пригласить на допрос Зиедониса. Разумеется, после того как мы его возьмем. Но пока он нам нужен на воле – чтобы с его помощью мы смогли взять всю организацию. Как вы понимаете, это я вам говорю тоже не для печати.
– Да-да, не сомневайтесь ваше превосходительство, я все-все понимаю, – заверил собеседника журналист. – И буду вам премного благодарен, если вы разрешите мне присутствовать на допросе террориста.
Вуич умолчал о том, что неведомого Зиедониса полиция пыталась взять живьем не раз и не два. Но он как-то ускользал от них, буквально, проваливаясь под землю. И никто из блестящей команды летучих филеров – заслуженной гордости Вуича – не смог его выследить. То ли это злодей с большим опытом, то ли… Черт его знает, может у этих революционеров действует учебный центр, где дрессируют будущих бомбистов, учат филеров распознавать и от жандармов скрываться?
– А теперь по поводу бомбочки, что у Созонова оказалась посильнее и помощнее, чем у Сикорского, – вновь заговорил полицейский начальник. – Тут простое объяснение, и об этом вы можете написать в вашей статье. Все дело в очень хитром устройстве их адских машин. Они сделаны из жестяных оболочек, заполнены динамитом и такими стеклянными трубочками с серной кислотой и еще бертолетовой солью с сахаром. Как только бомбочка падает на землю, серная кислота попадает на эту смесь, она воспламеняется и взрывает динамит. Сикорский свою «игрушку» так и не метнул, а потому выбросил в реку. Когда ее нашли, от серной кислоты и адской смеси уже ничего не осталось – вода все вымыла. Потому-то наши эксперты и решили поначалу, что бомба Сикорского была слабенькой и убить господина Плеве не могла.
– Спасибо за интервью, Эммануил Иванович. Я все сделаю в лучшем виде, – заверил Вуича журналист, убирая блокнот и карандаш в карман. – Уверен, редактор поставит его на первую полосу.
– Но ничего лишнего, как я сказал.
– Не извольте беспокоиться. Но и вы, ваше превосходительство, не забудьте позвать меня на допрос Зиедониса.
– Я свои обещания никогда не забываю.
Журналист и чиновник пожали друг другу руки, попрощались и Брачишников, весело постукивая каблуками по каменной лестнице министерства внутренних дел, сбежал вниз и вылетел на весеннюю Фонтанку. По набережной цокали копыта пролеток, а от самой реки тянулся запах едкого дыма от проплывающего мимо катера.
Санкт-Петербург. Здание Департамента полиции
ххх
Настроение Брачишникова было самое что ни на есть превосходное. За будущее России можно не переживать – оно в надежных руках таких патриотов, как Эммануил Иванович Вуич. За свое будущее тем более не стоит волноваться. В кармане его светлого длиннополого пальто лежал блокнот с записями интервью с директором департамента полиции. Сама по себе великая удача, а его разоблачения нелепых слухов о двойнике барона фон Плеве и разных по мощности адских машинах Созонова и Сикорского станет еще одной бомбой. Только бомбой мирного свойства, она взорвет и одновременно успокоит умы людей. Никакие высшие силы не участвуют в деятельности террористов и скоро, очень скоро с ними будет покончено. Репортер «Петербургских вестей» сделал на этих слухах себе имя. А теперь он укрепит свою славу на их разоблачении. Нет, все-таки не зря он, юноша из глухой провинции, перебрался в столицу и начал свою карьеру в области журналистики.
От светлых мыслей его отвлекло знакомое озабоченное лицо молодого человека, шедшего по другую сторону дороги. Брачишников быстро ее пересек, не обращая внимания на ругательства кучера, чья повозка чуть не сбила журналиста с ног, догнал знакомца и легонько дернул его за рукав.
– Сашка! Лукин! Это ты что ли? Вот кого не ожидал встретить в Питере, – воскликнул репортер.
– Привет, Брачишников! – натянуто улыбнулся Лукин. – Ты не ошибся, это я.
– Как же тебя сюда занесло? И почему ты бросил семинарию? Тебя же считали лучшим учеником.
Лукин не остановился, и Брачишникову пришлось идти рядом, изменив первоначальный маршрут.
О себе Лукин говорил с виду неохотно, хотя на самом деле ему очень хотелось хоть кому-то излить душу. Учительскую семинарию в их родной Тотьме пришлось оставить из-за отчима. Отец бросил семью и перебрался в Москву. Правда, деньги на содержание детей отправлял аккуратно. Но мать вздумала повторно выйти замуж за мастера по изготовлению игрушек. Свой опыт он передавал учащимся Петровской ремесленной школы и очень хотел обучить этому пасынка. Но руки Саши Лукина совершенно не слушались, когда держали лобзик или стамеску. И отчим посчитал, что пасынок – совершенно никчемный парень и быстро охладел к нему.
В гости к отчиму зачастил ссыльный революционер – некто Луначарский, социал-демократ. А вот он, как раз наоборот, нашел, что Саша очень толковый и умный мальчуган. За чаем с баранками Луначарский много говорил о несправедливом устройстве общества, об угнетении бедных богатыми, о немецком философе Марксе, который разработал целую теорию, как сделать так, чтобы сбросить царизм и создать новый мир, в котором не будет ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых.
Эти предосудительные разговоры на Сашу и отчима произвели разное действие. Лукин слушал Луначарского с необычайным интересом, все более пропитываясь ненавистью к царю и прочим угнетателям. А отчим, почувствовав свою принадлежность к угнетенному классу, принялся заливать это чувство водкой. А напившись, начинал ругать никчемного Сашку и его родного отца, обзывая того эксплуататором, хотя он был всего лишь врачом-гинекологом. В конце концов, терпение Саши лопнуло, и он, бросив семинарию и мать с сестренками, уехал в Москву. Лучше жить с родным отцом, пусть и эксплуататором, чем с пьяным и безмозглым отчимом из класса угнетенных.
– Да-а, правильно сказал Петр Первый про нашу Тотьму: то не город, то – тьма, – заметил по этому поводу Брачишников, которому не понравилось, что его товарищ по семинарии общался с опасным революционером. – Так Тотьмой и прозвали.
– Нет, не так, – отвлекся от рассказа о себе Лукин. – Раньше в нашем городе жили коми люди. А с их языка Тотьма переводится как «сырая земля».
– Один черт – что «тьма», что «земля сырая». Но как ты в Питере-то оказался?
И Лукин поведал о том, как отец поначалу обрадовался его появлению в Москве, даже пообещал, что сам его обучит всему, чтобы он смог экстерном сдать экзамены на получении аттестата зрелости. Однако все обучение свелось к помощи отцу в приеме больных. Лукин младший записывал в специальный журнал имена пациенток и их жалобы, готовил препараты, выписывал под диктовку рецепты. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы Сашу почему-то невзлюбила новая отцовская жена. И тогда отец решил отправить сына подальше от мачехи – в Санкт-Петербург. Там обитал знакомый ему по Тотьме литератор Каллистрат Жаков. Он преподавал на вечерних Черняевских курсах, дававших возможность получить заветный аттестат зрелости и при этом зарабатывать на хлеб.
Так, лишний человек в семьях как матери, так и отца, Саша Лукин очутился в столице, снял жалкую комнатушку в мансарде на Лиговке, развесил, где смог, объявления с предложением услуг по репетиторству и поступил на эти самые курсы. Теперь он учит грамоте недорослей и учится сам. В общем, жалкая доля.
Выслушав товарища, заговорил Брачишников. Его рассказ выглядел более жизнеутверждающим.
Успешно окончив учительскую семинарию, Николай не захотел ехать в неведомую деревню Небдино, куда его направили в качестве преподавателя сельского училища, а направился в противоположном направлении – в Петербург. Устроился курьером в газету «Петербургские вести». Два года разносил письма по адресам, приносил в редакцию готовые статьи, сотворенные постоянными авторами – в общем, был мальчиком на побегушках. А заодно присматривался, примеривал на себя беспокойную профессию репортера. И однажды принес заметку о лошади, провалившейся одной ногой в открытый канализационный люк. Произошло это – что очень символично – возле Аничкова моста, на котором возвышались бронзовые кони Петра Клодта. Эту нелепую сценку Брачишников наблюдал лично, когда нес свежий номер одному из авторов. Заметка редактору понравилась, и он предложил продолжать наблюдения и немедленно записывать все любопытное, что предстанет взору. Николай так и сделал. Глаз у него оказался острый, а к нему прикладывался собачий нюх. Заметки, которые он строчил своим шустрым пером, становились все острее и привлекательнее. А уж когда он первым из всех петербургских газетчиков принес в редакцию репортаж с места убийства фон Плеве, да еще с такими подробностями, которые даже жандармы не заметили, Брачишников и вовсе стал знаменитостью. Теперь он живет в меблированной комнате на пересечении Садовой и Итальянской, в доходном доме с каменными атлантами, хорошо зарабатывает и всем доволен.
Лукин выслушал рассказ приятеля без интереса, и Брачишников, почувствовав это, спросил Сашу, как у него обстоят дела с женским полом. В ответ Лукин только вздохнул, и тогда Николай предложил ему как-нибудь в свободный день посетить славный бордельчик на Первой линии Васильевского острова. Обойдется недорого – рубля так в три с носа. Однако Лукин категорически отказался, заявив, что насмотрелся на женские интимные места, пока помогал отцу лечить гинекологические заболевания. Да и времени на подобного рода занятия у Саши не было.
Тогда Брачишников, наконец, поинтересовался: куда сейчас направляется Лукин? Оказалось, что на встречу с присяжным поверенным Станиславом Осиповичем Бреславским.
– Постой, постой, – перебил приятеля журналист. – Это не тот ли Бреславский, что был гласным городской думы и в феврале вошел в «Союз 17 октября»?
– Да он-он. Только теперь Станислав Осипович – депутат Государственной думы, – равнодушно ответил Лукин.
– Я должен пойти с тобой. Вы где встречаетесь?
– В «Доминике» на Невском, – Лукину не хотелось приходить на встречу с незнакомым Бреславскому приятелем, но соврать он не мог.
– Да ты не волнуйся, я не буду вам мешать, – угадал его мысли Брачишников. – Я только договорюсь об интервью и тут же уйду.
– Ладно уж, идем так идем.
По дороге Лукин вынужден был рассказать о своем знакомстве с начинающим политиком. Первая встреча с ним произошла в его родительской квартире, где Саша занимался с младшим братом Станислава Бреславского. Сдружились они как-то незаметно. В Станиславе Осиповиче было то, чего не хватало Лукину – уверенность в своей правоте, широкая славянская душа, легкость и раскрепощенность. Он свободно мог рассуждать на любые темы – от тупости царских сатрапов до недавно открытой радиации.
Став «октябристом», Бреславский включился в избирательную кампанию в Государственную думу, а Лукин взял на себя роль верного Санчо Пансы. А, если точнее, то мальчика на побегушках. Но ведь и Брачишников начинал свой путь в журналистике с той же ступеньки.
ххх

Невский проспект. Ресторан "Доминик"
За разговорами приятели-земляки дошагали до пятиэтажного жилого дома Невском проспекте, где над высокими окнами первого этажа блестела вывеска «Ресторан «Доминик», и зашли в богато утыканный лепниной зал. Лукин быстро оглядел его и без труда нашел одетого в черную «визитку» высокого человека за круглым столом, накрытым идеально белой скатертью. Бреславский читал лежащую на столе газету, попивая кофе из маленькой чашечки, которую изящно удерживал двумя пальцами правой руки.
Увидев молодых людей, он отложил в сторону чашку и газету, чуть привстав, поздоровался с ними за руку и предложил сесть в свободные, как будто их дожидавшиеся, стулья. Брачишников мигом очутился напротив Бреславского, а Лукин, неловко задев скатерть и чуть не опрокинув стол, опустился сбоку от своего старшего товарища.
– Станислав Осипович, я тут не один, – смущенно проговорил Лукин, указывая на приятеля. – Это мой земляк Коля Брачишников, репортер «Петербургских вестей».
– Что ж, это моя любимая газета, – добродушно отозвался Бреславский. – Чем обязан, господин репортер?
– Понимаете, господин Бреславский, я хотел бы взять у вас интервью, – заговорил Брачишников. – Ну, там поспрашивать: чем вы будете заниматься в Думе? Как вы видите ее работу? Ведь это такое великое дело – первый русский парламент!
– Вы правы, господин репортер, дело, действительно великое. Но как вы узнали про меня?
– Мы встретились на Фонтанке, возле министерства внутренних дел, – пояснил Лукин, радуясь, что угодил старшему товарищу.
– Что же вы делали возле министерства внутренних дел?
– Я до этого брал интервью у его превосходительства Эдуарда Ивановича Вуича.
– Ого! У самого директора департамента полиции. И что же он вам рассказал такого примечательного, с чем вы поделитесь с вашими читателями? Поделитесь сначала со мной, я ведь тоже ваш верный читатель, – Бреславский, не отрывая глаз от журналиста, откинулся на спинку стула и сложил на груди руки.
– Ну, как вам сказать? – на этот раз засмущался Брачишников. – Вуич опроверг некоторые мои измышления.
– Это становится интересным, – оживился Бреславский. – Эй, человек! – позвал он татарина-официанта в белом накрахмаленном фартуке. И когда тот очутился перед избранным депутатом, Станислав Осипович обратился, однако, не к нему, а к молодым собеседникам: – Вы что предпочитаете – горячий шоколад, кофе или чай? И каковы ваши вкусы по поводу пирожных?
Оба молодых человека вконец смутились, и тогда Бреславский заказал для них по чашке горячего шоколада, по эклеру и – дополнении всему – двести пятьдесят грамм шустовского коньяка с тремя рюмками.
– Так что же такое вам открыл этот жандарм Вуич? – продолжил беседу Бреславский.
– Понимаете, какое дело, – окончательно оробел журналист. – Я тут книжку одну прочитал. «Война миров» называется. Ее англичанин Уэллс написал. И вот увлекся так, что решил, будто бы марсиане или какие-то иные цивилизации помогают террористам в их черном деле.
– Ну-ка, ну-ка, – еще более оживился Бреславский. – На чем же основывалось сие разумение?
Брачишников тоже немного приободрился и поведал новому знакомому свои соображения насчет двойников покойного фон Плеве, а также странной большой мощности бомбы террориста Созонова. И в конце честно, нарушая обещание, рассказал о том, как директор департамента полиции разбил все его доводы.
Станислав Осипович выслушал репортера без улыбки. В это время у стола вновь вырисовался официант, теперь уже с подносом. Он почти бесшумно расставил чашечки с горячим шоколадом перед молодыми людьми, поставил графинчик с коньяком возле Бреславского и собрался было разлить коньяк по рюмочкам, но Станислав Осипович его остановил и проделал эту процедуру сам.
– Давайте для начала выпьем за знакомство, а потом я вам тоже расскажу кое-что весьма любопытное, – предложил, а, точнее, повелел, Станислав Осипович.
Все трое залпом опрокинули коньяк в свои желудки, и когда хмель слегка затуманила мозги молодых людей, Бреславский заговорил:
– Итак, господа, по мнению Вуича, жене уфимского губернатора Богдановича верить нельзя, поскольку сия дамочка была любовницей министра фон Плеве. И это правда. Но вот как быть с тем, что в тот же день убитый министр явился в кабинет Ивана Николаевича Соколовского – преемника Богдановича? Его секретарь так оторопел, что не осмелился задержать призрака. О чем они там говорили, нам неведомо, но, когда фон Плеве-второй покинул кабинет, Иван Николаевич строго-настрого запретил своему секретарю говорить кому-либо об этом странном визите. И все же он проговорился. Не всем, разумеется, но мне лично рассказал, когда я был в Уфе по своим адвокатским делам, защищал его сынка, натворившего кое-какие делишки. Впрочем, это неважно.
Брачишников молчал, не зная, что сказать. Лукин с интересом наблюдал эту сцену, переводя глаза то на репортера, то на старшего товарища.
– Теперь поговорим о Коваленском, – продолжил Бреславский. – Вуич заявил, как вы сказали, что его предшественник сам не верит в «сказку» про двойника Плеве, а являлся он якобы его теще. И это не так. Он приходил лично к нему. Причем домой. По слухам, призрачный Плеве предсказал, что девятого января будущего девятьсот пятого года в Петербурге прольется много крови. Коваленский доложил об этом своему непосредственному начальнику Петру Дмитриевичу Святополку-Мирскому. И тот, видимо, приказал ему помалкивать. Вы спросите: откуда я это знаю? Отвечу: об этом мне рассказал Александр Иванович Гучков. Вы должны его знать. Бретер, авантюрист, но человек чести и врать не будет. А он в свою очередь имел разговор с Коваленским накануне доклада Святополку-Мирскому. После доклада Коваленский все отрицал и сваливал на тещины бредни.
Бреславский оглядел собеседников, наслаждаясь произведенным эффектом, и сказал в заключении:
– Да и по поводу адской машинки скорее правы вы, а не Вуич. Не додумались еще господа террористы до такой бомбы, чтобы разворотить в щепки весьма массивную карету господина Плеве. Не только бомба Сикорского была пожиже, но Каляева, который в прошлом году укокошил великого князя Сергея Александровича.
– Да-да, я об этом тоже думал, – очнулся Брачишников, не зная, горевать или радоваться тому, что нашел подтверждение своим подозрениям. – А как насчет кишиневских евреев?
– Вот чего не знаю – того не знаю, – развел руками Бреславский. – С этими людьми мне общаться не довелось. Но и того, что я знаю, достаточно, чтобы увериться в том, что устранение фон Плеве нужно было не только социалистам, но и кому-то там еще. Марсиане ли это – книжку Уэллса я читал, весьма занятная книжица – или вполне земные господа, мне неведомо. Хотя очень хотелось бы узнать. Вот вам и ответ на вопрос: чем я займусь в Государственной думе. Устрою депутатское расследование.
И это будет правильно, подумал журналист. А мое имя прогремит на всю Россию, ведь именно я первым высказал эти подозрения. Когда полиция найдет этого чертового Зиедониса, я приду на допрос и сам спрошу его про двойника его превосходительства фон Плеве. То, что я напишу, будет даже не статья. Это будет огонь, жар от которого почувствует вся Россия.
Черти в душе Зиедониса
На озере Вялье пылало и потрескивало уместившиеся между камышами великое техническое чудо – аэроплан. Огонь охватил оба крыла и уже уничтожил место для пилота, а жалкие останки былого величия хрястнули и рухнули в воду. Зиедонис, мечтавший об этом месте, чтобы взмыть за облака, а затем на глазах сотен людей спикировать на Дворцовую площадь прямо на голову жалкого и ничтожного Божьего помазанника, смотрел на пылающий аэроплан с тоской и, как казалось ему, чувствовал жар от огня.
Федор-Абрам давно уже приговорил себя к смерти. После того, как теплым пасхальным утром 1903 года в Кишиневе разъяренная толпа ворвалась в их дом на Армянской улице, разгромила принадлежащую его семье аптеку и заколола вилами его родителей, маленького брата и сестренку, готовящуюся выйти замуж за его друга, Абрам Моисеевич видел только один смысл своей жизни – месть. Он сам уцелел лишь потому, что в этот чудовищный день оказался в бессарабском селе Исерлия, где по заданию отца скупал у местных крестьян лекарственные травы.
Выжившие евреи поговаривали, что Николай II лично отдал секретный приказ устроить погромы, чтобы посчитаться с евреями за якобы ритуальное убийство Михаила Рыбаченко[ii]. Погромщиков, разумеется, потом наказали. Как же без этого? Надо же как-то, подобно Понтию Пилату, умыть руки. И это свое двуличие Николашка вновь продемонстрировал 9 января 1905 года, расстреляв мирную рабочую демонстрацию в Петербурге. Вместо того, чтобы поговорить с людьми, он спрятался в Царском селе, а вину за десятки и сотни убитых и раненых свалил на градоначальника Фуллона, которого всего-навсего отправили в отставку. Вот и все наказание!
Зиедонис прибыл в Петербург с твердым намерением отомстить за пролитую кровь, за своих униженных соплеменников, за угнетенных крестьян и рабочих всех проживающих в огромной империи народов. Он готов был убить за них хоть городового, хотя и мечтал о большой птице. Однако плохо представлял, что и как он должен делать. Одно знал будущий террорист: в стране действует боевая организация революционеров, уже уничтожившая двух министров внутренних дел – Сипягина и Плеве, а также уфимского губернатора Богдановича и великого князя Сергея Александровича. Значит, надо найти кого-то из них и предложить организации свои услуги.
Судьба сама вывела Зиедониса на террористов. Чтобы было на что жить, он устроился помощником аптекаря – приятеля его погибшего отца. Евреям-фармацевтам разрешалось жить за чертой оседлости, но Зиедонис на всякий случай принял крещение, превратившись из Абрама в Федора. Таким образом он не только расширил свободу для маневра – Зиедонис желал, чтобы его дело не выглядело как мщение исключительно за еврейские погромы. Своим актом он хотел показать всю несправедливость общественного устройства России. И кто-то там на небесах решил, что он выбрал правильный путь, и ему надо помочь.
Помощь небес заключалась в том, что в аптеку на Петроградской стороне, в которой трудился Зиедонис, нередко заглядывала жгучая брюнетка с бледной кожей, скромно одетая, с широкими застывшими глазами. Девушка выглядела так, будто она уже умерла. И это роднило ее с похоронившим себя заранее Зиедонисом, и он нашел ее очень привлекательной.
Незнакомку не интересовали лекарства от недугов, она брала, причем лично у хозяина, аммиачную селитру и нитрат натрия. Эти соединения обычно использовали в качестве удобрения, но они годились и для получения взрывчатых веществ. Зиедонис несколько раз пытался с ней заговорить, но она не шла ни на какие контакты. И ему ничего не оставалось другого, как, подобно Нату Пинкертону, отследить маршрут незнакомки и выйти на квартиру в цокольном этаже большого дома возле Тучкова моста.
Зиедонис вошел в обитель террористов сразу вслед за ней, не дав закрыть дверь, и с порога заявил, что догадывается о том, чем занимаются жильцы, и желает к ним присоединиться. Разумеется, сразу ему не поверили, отправили девушку назад в аптеку, чтобы навести у ее хозяина справки о наглом незваном госте. Затем последовал еще целый ряд проверок. Завершился этот цикл поручением убить великого князя Михаила Александровича. Теракт готовился очень тщательно, Абраму-Федору помогала та самая брюнетка с немигающими глазами, которую, как выяснилось, звали Дора Бриллиант.
Зиедониса удивил, но не насторожил тот факт, что великого князя ему предстояло застрелить, а не взорвать с помощью адской машины, как это делали эсеры, начиная с убийства фон Плеве. Чтобы вскочить с револьвером в руке на подножку мчащейся кареты, а затем в считанные секунды в темноте найти жертву и прицельным выстрелом всадить в него пулю, да так, чтобы убить, а не ранить, нужно иметь цирковые способности. И Абрам-Федор их приобрел изнурительными тренировками за считанные недели.
А кончилось все тем, что великий князь отделался нелегким испугом, но остался жив. Газетчики о покушении не пронюхали, императорская семейка сочла за благо промолчать, а успешно выдержавшему этот сложнейший экзамен Зиедонису поручили самое ответственное дело, которое только можно придумать. Прихлопнуть из аэроплана царя.
ххх
Как ни странно, но именно той ночью, когда в присутствии Доры и Савинкова, а также загадочного Календера, сам Азеф определил Зиедониса на роль убийцы и самоубийцы, Федору-Абраму на какое-то время захотелось жить. Нет, не в тот момент, когда он узнал, что именно ему предстоит совершить это в прямом смысле слова головокружительное и смертельное действо, а немного позже – когда он с Дорой лежал на своей скрипучей кровати в маленькой комнате на втором этаже прямо над аптекой, в которой он пока еще служил. После бурного любовного акта ему на миг показалось, что было бы здорово жениться на Доре, уехать от Петербургской промозглой стужи в разогретый южным солнцем Кишинев, восстановить отцовскую аптеку и нарожать пять-шесть маленьких Зиедонисов.
Эта слабость тут же исчезла, стоило ему приподняться на дребезжащих пружинах и посмотреть в освещенное падающим из окна утренним светом лицо своей подруги, увидеть ее немигающие, неживые, обреченные глаза. Они оба были созданы не для жизни, а для красивой и полезной смерти. За утренним чаем в прикуску с колотым сахаром они решили, что погибнут вместе. Они постараются убедить Азефа и Савинкова отправить их обоих в смертельный полет с тем, чтобы Зиедонис управлял воздушной машиной, а Дора занималась бомбометанием. Но поскольку с высоты даже самого низкого птичьего полета попасть в царя практически невозможно, то они просто-напросто направят на него свой аэроплан. Кровавый тиран погибнет от извергнувшихся с небес черных ангелов.
Этот красивый план начал рушиться уже через пару недель. Полиция ворвалась в фотоателье неподалеку от Сенного рынка и в том месте, где проявлялись фотопластинки и печатались снимки, обнаружила лабораторию по изготовлению бомб. Так получилось, что жандармы застали за этим опасным занятием одну Дору. Здесь по взаимной договоренности, молодая эсерка строго по инструкции, составленной Календером, готовила необходимые смеси, а на заключительном этапе в лабораторию приходил сам Дмитрий Александрович и в полном одиночестве завершал дело. Адские машины, созданные по рецепту Календера, обладали невероятной мощью.
Дору заточили в Петропавловскую крепость, где она, по слухам, сошла с ума. А «игрушку» для убийства царя решено было изготовить в Швейцарии.
Одновременно в плотницкой мастерской неподалеку от озера Вялье несколько нанятых рабочих создавали аэроплан по чертежам все того же Календера. Плотникам хорошо заплатили за работу, сказав им, что эта конструкция будет частью декорации для любительского спектакля. И вот когда оба составных элемента для центрального террора были готовы, выяснилось, что они никому уже не нужны. Руководство партии социалистов-революционеров приняло решение о прекращении террористической деятельности. Лаборатории по изготовлению бомб закрыли, а созревший для взлета аэроплан приказано было безжалостно уничтожить. Таким образом чудо техники эсеры приговорили к смерти, а Зиедониса – к жизни. Оба приговора Федор-Абрам счел чересчур жестокими.
ххх
И вот теперь деревянный аэроплан, стоящий на двух похожих на лыжи поплавках, испускал дух, оставляя недогоревшими эти самые лыжи-поплавки. С берега за этим зрелищем наблюдали Азеф и Зиедонис, а рядом на поваленной березке сидел Календер и подобранной откуда-то веткой водил по траве. На истлевающее собственное детище он даже не поднял глаз.
Когда большая часть аэроплана превратилась в обгоревшие дощечки и мирно плавала возле берега, Азеф скинул со своего одутловатого тела старый сюртук, брюки, белую рубашку, носки, башмаки и, оказавшись полосатом купальном костюме, полез в озеро, морщась от прикосновений колючей травы и холодной воды. С помощью трости он вытащил на берег оба несгоревших поплавка, подозвал Зиедониса и приказал ему довершить дело.
Федор-Абрам нехотя оттащил жалкие останки аэроплана подальше от воды, облил бензином и, чиркнув спичкой, предал их огню. Азеф к тому времени уселся на траву, не спеша вытер большим подвернувшимся лопухом свои промокшие ноги и, одеваясь на ходу, подошел к Зиедонису и произнес:
– Ну, вот и все! С террором покончено. Боевая организация нашей партии объявляется распущенной.
– И вы не жалеете? – угрюмо спросил Зиедонис.
– О чем жалеть, Федор Моисеевич? – привычно, вопросом на вопрос, ответил теперь уже бывший распорядитель эсеровского террора. – О том, что мы больше не будем никого убивать? Так ведь времена другие. Теперь нам надо идти в Думу и бороться мирными методами. Я об этом еще в прошлом году говорил. Савинков со мной не согласился, за что и поплатился. Сидит в севастопольской тюрьме.
– В прошлом году вы нам совсем другое говорили, – возразил Зиедонис. – Обещали, что мы убьем царя вот из этой штуки. – Тут Федор-Абрам показал на уже не существующий аэроплан.
– Говорил. И был прав. Такая прелестная акция могла бы стать славным завершением работы нашей организации. Царя бы не стало, власть перешла к Думе, в которой бы мы к тому времени имели большинство. Увы, Центральный комитет решил иначе. Так что ничего уже не попишешь.
Ловкими движениями Азеф завязал вокруг шеи узкую полосу светло-серой шелковой ткани с остроугольными концами, называемую пластроном, тростью раскидал догорающие угли поплавков, неуклюже подпрыгнул и напомнил своим сообщникам:
– Пора ехать, товарищи.
– Нет, езжайте без меня, – отозвался Зиедонис. – Мне с вами больше не по пути.
– Понятно. Уходите к «Медведю».
– Не знаю, я еще не решил.
– Жаль вас терять, Федор Моисеевич, хотя понять я вас могу, – вздохнул Азеф, пожимая все же на прощание руку теперь уже бывшему соратнику. – Ну, а вы, Дмитрий Александрович, едете?
– Посижу тут еще, Евно Фишелевич, – ответил Календер. – Погодка, знаете ли, замечательная. Подышу немного. Птичек послушаю.
– Что ж, оставайтесь, дышите, а я поехал, – с этими словами Азеф поднялся на пригорок, сел в поджидавший его тарантас и умчался прочь, самолично управляя единственной лошаденкой.
Зиедонис угрюмо смотрел ему вслед. Молодому человеку казалось, что умчался единственный смысл его жалкой жизни. Календер между тем отбросил березовую ветку и обратился к незадавшемуся террористу:
– Любезный Федор Моисеевич, не жалейте об аэроплане и о том, что вам не дали убить царя. Все равно бы из этой затеи ничего не вышло.
– Это еще почему?
– Господин Азеф не дал бы ему осуществиться. Он, как это у вас называется, провокатор. Двенадцать лет как сотрудничает с полицией.
– Да вы что! – Зиедонис остолбенел. Путаница в его голове приняла уже совершенно неуправляемый характер. – Но ведь провокатора уже раскрыли. Это Татаров, Николай Татаров[iii]. Он сам обвинял Азефа в провокаторстве. Выходит, его зря наши застрелили?
– Они оба работали на полицию, только не вместе, а по отдельности, – пояснил Календер. – Но ежели их обоих на одни весы положить, то господин Азеф преизрядно перевесит Татарова. Николай Юрьевич такая мелочь рядом с Евно Фишеливичем.
– Но вам-то откуда это известно?
– Я намедни в департамент полиции наведался. Ночью, прямехонько в кабинет Максимилиана Ивановича Трусевича. Ну, того самого, что сменил Эммануила Ивановича Вуича. Захотелось, знаете ли, побольше узнать о новом начальнике полиции. В бумажках его порылся. Осторожно так, чтобы никаких следов после себя не оставить. И много интересного узнал. Целую папочку обнаружил, посвященную вам. Еще не тронутую Максимилианом Трусевичем. Он весьма, знаете ли, аккуратный человек. Просмотренные бумаги хранит отдельно от тех, с коими еще предстоит ознакомиться. Вашу папочку я, разумеется, с собой забрал и дома сжег. Решил даже вам не показывать. Зачем вас лишний раз нервировать? А вот многочисленные донесения некоего «Раскина» вынужден был сохранить в целости. Их господин Трусевич уже прочитал. А знаете ли, кто такой «Раскин»?
– Нет, не знаю, – выдавил из себя Зиедонис.
– Да никто иной, как Евно Фишелиевич Азеф. Там и его фотокарточка имеется, и анкетные данные. Все как положено.
– Савинков об этом знает?
– Нет покамест. Он сидит себе в севастопольской тюрьме, пребывая в полном и счастливом неведении, что предал его полиции его же самый близкий соратник.
– Надо другим товарищам сказать об этом, – забеспокоился Зиедонис.
– Надо. Вот только вся штука в том, что не поверят мне они. И вам не поверят. Да и как же поверить, ежели Евно Фишелиевич столько акций организовал, таких людей уничтожил! Нет, я нашел лучший выход. Я обо всем этом рассказал Владимиру Львовичу Бурцеву[iv]. Вы его, конечно, знаете. Это журналист, издает здесь, в Петербурге, журнал «Былое». Он поклялся разоблачить всех агентов департамента полиции. Вот пусть и разоблачает Азефа. Ему господа революционеры доверятся скорее, чем мне и вам.

Евно Азеф
Зиедонис задумался. Да, ему не нравится Азеф – этот жирный бурдюк с неприятной ухмылкой и противными черными усами. Но это все эмоции. Реальность же заключается в том, что именно он руководил Боевой организацией, когда были убиты фон Плеве и великий князь Сергей Александрович. Хотя и провалов было немало. И не все из них можно списать на Татарово. Однако стоит ли верить самому Календеру?
– Дмитрий Александрович, я давно собирался кое о чем вас расспросить, но как-то не представлялось случая, – неуверенно заговорил Федор-Абрам после некоторой паузы. – А сейчас нас двое, и я хотел бы кое-что узнать. Скажите, пожалуйста, только откровенно: кто вы такой? Вы не похожи ни на русского, ни на немца, ни на еврея. Вообще, ни на кого. Что у вас за странный перстень с изумрудом? Вы им подслушивать можете, и людей парализовать, и даже сквозь стены проходить. Но ведь это невозможно! Это противоречит законам природы.
– Э-э, любезный Федор Моисеевич, а хорошо ли вы знаете законы природы? – улыбнулся Календер. – Не вы лично, а все люди. Давно ли считалось, что один человек может услышать другого только на расстоянии нескольких метров? И что теперь? Американец Белл, а после ваш инженер Попов и итальянец Маркони сделали так, что человеческие голоса можно слышать чуть ли не через океан. Ну, да – устройства у них большие и громоздкие. Но, уверяю вас, их можно сделать куда как меньшими. Даже малюсенькими. А уж подслушивать других и вовсе не так сложно. Ведь что такое наша речь? Колебание воздуха, не правда ли? И разве так уж и трудно эти колебания уловить? Про то, как парализовать человека или части его тела даже говорить не стоит. Для это всего-то и требуется, как нужные нервные клетки маленьким лучиком закупорить. Вот и все!
– Нет, не все. Голоса, нервные клетки – это я еще могу понять, благо родитель мой был фармацевтом. Но проходить сквозь стену? Это как-то знаете…
– Да, тут объяснение посложнее будет, – продолжал улыбаться Календер, давно ждавший от Зиедониса таких вопросов. – Вы человек образованный и представляете, что все в мире состоит из атомов.
– Да-да, представляю, конечно.
– Атом же, если с древнегреческого переводить, значит «неделимый». Только на самом-то деле это совсем не так. Атом состоит из очень мелких частиц, между которыми сплошная пустота. Сквозь эту пустоту могут проходить, например, лучи, открытые немцем Рентгеном. Эту пустоту можно расширить, и тогда через эти частицы, пусть даже в твердом теле, смогут свободно проникать какие-то другие твердые вещества, у которых простор между частицами не столь велик. Я вам понятно объяснил?
– Не совсем. Ну, да ладно, я в физике несилен. Но вы-то сами как про все это прознали? Ни немцы, ни американцы, ни русские до такого изобретения, как ваш «изумруд», еще не додумались. Вы что – инопланетянин?
Тут Календер и вовсе рассмеялся:
– Нет, Федор Моисеевич, мы с вами с одной планеты. Только прошу меня простить, но про свою родину я вам ничего сказать не могу. Обманывать таких честных людей, как вы, не приучен. А правду вам изложить не имею права.
– Тогда что же вы сказали Азефу и Савинкову?
– Сказал, что есть в мире две мало кому известные цивилизации. Одна – на востоке, затеряна среди Тибетских гор, и зовется Беловодьем или, по-индусски, Шамбалой. Другая – на севере, глубоко в тундре. Древние греки величали ее Гипербореей, а ныне северные народы называют ее Бьярмой или Биармией. Обе эти цивилизации заинтересованы в том, чтобы в России воцарились мир и согласие, а потому помогают революционерам.
– Соврали, – угрюмо усмехнулся Зиедонис.
– Не совсем, – посерьезнел Календер. – Доля правды в этом есть. Во всяком случае, в такое объяснение можно поверить.
– И они поверили?
– Не думаю. Но сделали вид. Им выгодно думать, что это правда. Вам же по секрету скажу, что я не из Шамбалы. Так что считайте меня гиперборейцем. Или биармийцем. Как вам пожелается.
Зиедонис прекратил расспросы, считая дальнейший разговор делом бесполезным, и принялся довершать то, что начал Азеф – тушить и раскидывать тлеющие угольки, а потом вновь обратился к «биармийцу»:
– Ну что – пойдемте?
– Нет, Федор Моисеевич, идите без меня. Я тут еще побуду. Воздух, знаете ли, сегодня какой-то особенно чистый. Солнышко светит, и притом – не жарко.
– Тогда я пойду один.
– Счастливого пути, товарищ Зиедонис. До Гатчины отсюда совсем недалеко, за час дойдете. А оттуда до Петербурга без труда доберетесь на перекладных. И передавайте привет Михаилу Ивановичу Соколову[v]. Хороший человек, бесстрашный. Хотя и чересчур горячий. Мне нравится его прозвище – «Медведь». Раскрою вам еще один секрет. У моего народа медведь – священное животное, хотя почти никто из моих соплеменников его не видел, – с этими словами Календер приподнял свою трость с рукоятью в виде лежачего медведя.
ххх
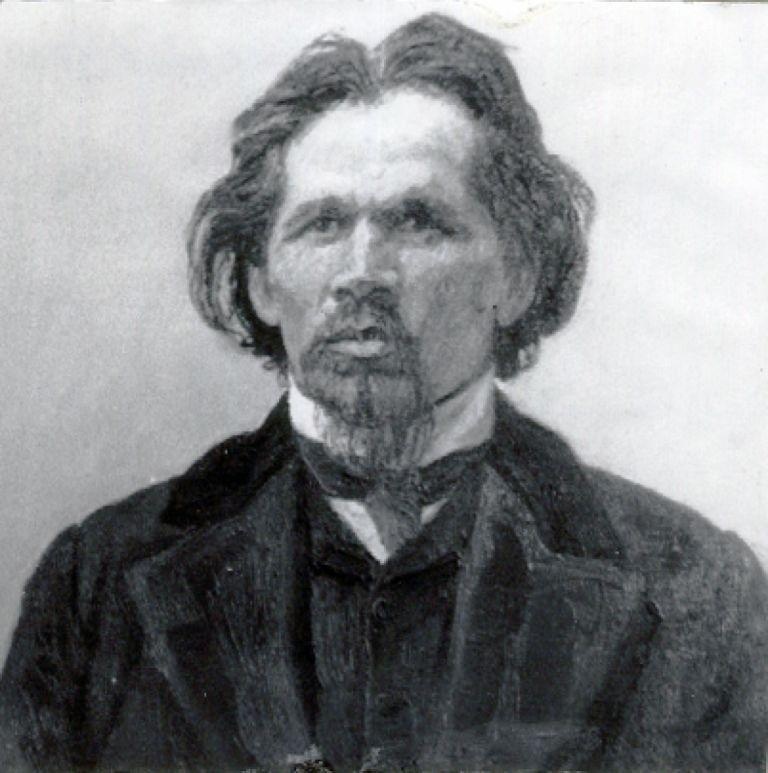
Озеро Валье
Как только Зиедонис удалился, Календер вновь подобрал березовую ветку и принялся елозить ею по траве, пытаясь таким образом собрать воедино свои думы. В это время из леса возник человек – такой же странный, как и Календер. Правда, он был повыше ростом, чуть полноватым, одетый в куртку строительного рабочего, но с выразительно некрасивым лицом и немного белесыми глазами.
– Приветствую тебя, Никодимус, – негромко произнес человек, присев на поваленную березку.
– Привет, Маркус, – сухо ответил Календер.
– Если я правильно понимаю обстановку, план «Войпель[vi]» сгорел вместе с этой деревянной птицей, – Маркус жестом указал на прибрежье озера, где еще недавно стоял аэроплан
– Нет, неправильно ты все понимаешь. У плана «Войпель» еще имеются резервы, а вот план «Орт» сгорел окончательно и, как говорят оламы, бесповоротно.
– Ты хочешь сказать, Никодимус, что я все провалил, а ты все еще в силе? – возмутился Маркус.
– Я этого сказать не хочу, – Календер-Никодимус по-прежнему, не глядя на собеседника, водил веткой по сухой траве. – План «Орт» был заранее обречен, и это большая недоработка ученых мужей из группы «Тесей». Они ошибочно решили, что раз некоторые северные оламы верят, что орты грозят им скорой смертью, то и все остальные люди думают также. Однако олам оламу рознь. И когда ты в облике господина Плеве стал им являться, то одни решили, что это призрак, или, как их ученые мужи выражаются, галлюцинация. Другие подумали, что Плеве им во сне приснился. Большинство же рассказам тем, к кому ты приходил, просто не поверили. Шорох, конечно, был, но паники не вызвал. Вот и все! Так что, как мне не жаль, но господина Плеве убили зря.
– Ох, Никодимус, нашел, о чем жалеть, – зло рассмеялся Маркус. – Этих оламов, шанями не корми, а дай убить кого-нибудь. С такой радостью друг дружку уничтожают, что я порой думаю: а может зря нас к ним посылают? Еще пара войн, и никого из них в живых не останется.
– Однако господина Плеве они убили с нашей помощью. А эта жертва оказалась ненужной.
– Не стоит об этом жалеть. Лучше скажи, что же мне теперь делать?
– Возвращаться в Уламколу. Я дам тебе кабалу[vii], где все подробно опишу. Ты задание Таракутта выполнил отменно. И это в кабале будет сказано, так же, как и про ошибки ученых мужей.
– Эфирной связи ты все еще не доверяешь, – съехидничал Маркус.
– Нет, не доверяю. Оламы, как тебе хорошо известно, и сами ее освоили. А, значит, могут перехватить эфирные послания. Кабала надежнее – она же самоуничтожается, когда попадает в чужие руки. Да и наши знаки они вряд ли разберут.
– И все же ты зря не пользуешься эфирной связью, Никодимус. Пусть она и ненадежна, зато упрощает общение с Таракутто.
Никодимус кивнул головой в знак согласия, но отклонил в сторону левую руку. Это означало, что он все равно остается при своем мнении. А Маркус после некоторой паузы продолжил разговор:
– Я ведь не случайно спросил про план «Войпель». Таракутто по эфирной связи просил передать тебе еще поручение. Нужно прикончить нового российского правителя Столыпина. Само собой разумеется, руками оламов. Я теперь даже и не знаю, как ты это сделаешь. Революционеры вроде решили больше своих правителей не убивать.
Никодимус не дослушав до конца, отбросил ветку, вскочил и нервно заходил туда-сюда вдоль берега.
– Ты-то чего так распереживался, Никодимус? – с ухмылкой спросил Маркус. – Боишься, что поручение невыполнимо? Да убей ты Столыпина сам в конце концов, а спиши все на оламов. Никто же не догадается, что это сделал улам. Все равно здешние охранители решат, что его революционеры прикончили.
– Да не в этом дело! – Никодимус остановился возле своего соратника и почти прокричал ему в лицо. – Я не хочу, чтобы еще одно окаянство было на мне. Пусть оламы убивают другу друга. Но без меня. После смертоубийства господина Плеве я решил для себя, что одну жизнь должен в ответ спасти. Только так можно вину загладить. И я сделал это – совершенно случайно встретил одного молодого человека, вздумавшего самого себя порешить. Не дал ему выстрелить в глотку и уговорил так больше не делать. А тут теперь еще Столыпин…
– Так что же мне Таракутто передать?
Календер неожиданно успокоился, снова присел на поваленную березу, подобрал брошенную ветку и сказал:
– Передай, что поручение будет выполнено. Нет, не так. По эфирной связи ничего не сообщай, а вот когда доберешься до Уламколы, скажи Таракутто, что Столыпин, как и было велено, убит. Пока ты будешь в пути, найдутся революционеры, которые еще не отказались от желания убивать неугодных им правителей.
Явление «неугодного правителя»
– Я-то думал, что проклятые думцы так ненавидят Столыпина, что готовы его убить, а они просто онемели, когда увидели его воочию, – мрачно шутил Брачишников. – И чего он от них упорхнул?
– Они онемели не от страха перед премьером, – возразил Лукин. – Господа депутаты сразу поняли, что это не он сам, а его призрак. А призраков все боятся. Это какой-то природный страх. Страх перед неведомым.
Друзья пили чай в комнате Брачишникова, что в доме с атлантами, и обсуждали совершенно мистическое и необъяснимое происшествие, случившееся три дня назад в сосновой роще дачного поселка Териоки. Полторы сотни депутатов разогнанной царем Государственной думы собрались в лесу неподалеку от Финского залива, чтобы окончательно решить, что им делать дальше. Они сидели на деревянных стульях, спорили, выдвигали все новые и новые идеи, и совсем не обратили никакого внимания, что на их тайном сборище присутствуют, плохо скрываясь за деревьями, чужаки – Лукин и Брачишников.
ххх
Оба уроженца славной Тотьмы явились в Териоки, не сговариваясь друг с другом, и совсем по разным поводам.
Все началось с того, что Николаю Второму пришелся не по душе первый русский парламент, потребовавший отставки премьера Горемыкина и отмены смертной казни, а самые горячие головы даже пожелали отменить частную собственность на землю и национализировать природные богатства Российской империи. Государь такой наглости стерпеть не смог и, заменив для начала на посту премьера Горемыкина Столыпиным, издал манифест о роспуске Думы.
Обиженные депутаты собрались поначалу в Выборге и приняли воззвание к народу с призывами не платить налоги и не ходить в армию. Бреславский на этом совещании не присутствовал, поскольку его партия посчитала разгон излишне радикальной Думы совершенно справедливым. Но знать, что там происходило, ему очень хотелось, а потому он отправил в этот финский город своего верного помощника Лукина. Однако тот вернулся ни с чем. В Выборге он не смог устроиться ни в одну гостиницу – все места оказались забитыми депутатами распущенного парламента, их помощниками и журналистами.
Не желая всю ночь шляться по городу, что, кстати, пришлось сделать даже нескольким народным избранникам, Лукин сел в поезд и вернулся в Петербург, чтобы с утра вновь заявиться в Выборг. Увы, когда он добрался до гостиницы «Бельведер», где проходило совещание, он увидел, что возле нее толпятся люди, не сумевшие попасть в зал. Как оказалось, он весь забит самой разнородной публикой. Лукин немного покрутился возле гостиницы и убрался восвояси. Бреславский, конечно же, остался недоволен своим сподручным. Но от своих знакомых он узнал, что депутаты намерены вновь собраться, причем тайно, в Териоках, и предложил Лукину исправить оплошность, посетив это сборище радикалов. Как ни странно, это задание Саше выполнить удалось, но лишь потому, что он встретил на улице поселка Брачишникова, который прибыл в Териоки с той же целью.
Вездесущему Брачишникову и в этой истории улыбалась удача. В Выборг он прибыл загодя и сумел устроиться в недорогой гостинице. В последующие два дня он просидел на совещании и даже сумел взять интервью у профессора Герценштейна из фракции кадетов и социал-демократа Захария Вырового. Позже, уже в Петербурге, когда репортер явился к Захарию Ивановичу, чтобы уточнить непонятные места в его ответах, тот сообщил ему по секрету, что кадеты и трудовики вознамерились вновь встретиться, но уже в Териоках, где многие из них держали или снимали на лето дачи.
Такого случая журналист упустить не мог. Еще в поезде на пути к дачному поселку он своим зорким взглядом приметил двух народных избранников, знакомых ему по выборгскому совещанию. И, выйдя на перрон, он отправился вслед за ними, соблюдая необходимую дистанцию. Сашка Лукин, встретившись на одной из улиц, чуть не испортил дело. Поняв, что его приятель тоже намерен побывать на совещании думцев, Брачишников знаком повелел ему молчать и идти вместе ним.
То, что они увидели в роще, примыкающей к поселку, менее всего походило на тайную партийную сходку. В этом почти райском месте посреди деревьев с шелестящей от свежего ветерка листвой, собирались солидные мужчины в сюртуках, жилетах и при галстуках, несмотря на жаркую погоду. Вид они имели весьма беззаботный, охотно давали себя фотографировать некоему любителю, о чем-то меж собой переговаривались. На полянке в окружении сосен стояли стулья и один стол. Лукин и Брачишников пристроились неподалеку от них за деревьями, чтобы не выдать себя, хотя, складывалось впечатление, что на них все равно никто не обратил бы внимания.

Собрание бывших депутатов Госдумы в Териоках
Через какое-то время аккуратно причесанный мужчина средних лет, в котором Брачишников без труда распознал лидера кадетов Павла Николаевича Милюкова, подошел к столу и призвал своих соратников рассаживаться. Соратники неторопливо повиновались. После того, как большинство стульев оказались занятыми, Милюков пристроил к правому глазу монокль, взял со стола бумагу, видимо, со списком участников совещания, осмотрел полянку, пересчитал собравшихся и громко и внятно сказал:
– Почти все собрались. Я думаю, мы можем начинать. Странно, что нет Михаила Яковлевича Герценштейна. У него здесь дача, он мог бы и не опаздывать.
– Да вот же он, – выкрикнул кто-то из депутатов.
И действительно, из-за спины Милюкова показался лысоватый и седобородый человек с застегнутым на одну пуговицу сюртуке. Повел он себя совершенно нелепо. Вместо того, чтобы занять свободный стул, он обошел председательствующего Милюкова, опершись на стол, заглянул ему в глаза, затем повернулся к другим думцам, прошелся между ними, не отводя ни от кого своего взора, а затем исчез.
От изумления парламентарии молчали, пытаясь понять, что бы это значило. Первым взял в себя руки Милюков. Слегка откашлявшись, он произнес:

Павел Милюков
– Кгхе-кгхе, давайте все-таки продолжим. Вернее, начнем совещание. Со дня принятия нашего Выборгского воззвания прошло четверо суток, и нам сегодня предстоит договориться о дальнейших действиях…
Договорить ему не удалось – председатель увидел, как, из-за спин сидящих депутатов, вновь показался Герценштейн.
– Извините, господа, за опоздание, – повинился профессор. – Тут со мной странный казус случился. Дверь моей дачи оказалась запертой снаружи.
– Михаил Яковлевич, вы же уже приходили, – недовольно пробурчал Милюков. – Вот только что. Зачем вы ушли?
– Вы что-то путаете, Павел Николаевич, – отозвался Герценштейн, усаживаясь на свободный стул. – Я опоздал, за что еще раз прошу меня великодушно простить. Но я не приходил, это был кто-то другой.
Депутаты зашумели, а Брачишников полушепотом сказал, обращаясь к Лукину:
– Голову даю на отсечение – приходил именно он. И костюм такой же, и очки.

Михаил Герценштейн
Шум вскоре утих, а совещание продолжилось. Кто-то из трудовиков предложил создать Исполнительный комитет распущенной Думы. Кто-то из кадетов не согласился. Депутаты зашумели сильнее прежнего, забыв о явлении двойника Герценштейна. Пошли споры, трудовики и кадеты поочередно брали слово, выходя к столу председательствующего. Одни считали, что российский народ готов к пассивному сопротивлению, другие же уверяли собравшихся, что Выборгское воззвание потеряло силу, поскольку по инициативе премьера Столыпина уже назначены выборы во Вторую Государственную думу. Такого рода заявления лишь усиливали накал страстей. Само упоминание имени Столпина, инициатора роспуска Думы, вызывало гнев народных избранников.
Спустя примерно час спор мгновенно утих, поскольку депутаты увидели, как на полянке появился никто иной, как сам Столыпин. Этого высокого человека с большим лбом и лысой головой нельзя было ни с кем перепутать. Его английского покроя костюм придавал ему солидность и весомость, и, казалось, делал его, еще выше ростом.
Депутаты как будто оцепенели, никто не мог выговорить ни слова, поскольку они не ожидали, что премьер появится здесь, а не в Таврическом дворце. Столыпин же повел себя еще более диковинно. Он легко впрыгнул на стол, окончательно напугав председательствующего Милюкова, а затем, взмахнув руками, взлетел вверх и скрылся между верхушечных ветвей зеленых сосен.
Милюкову потребовалось пять минут, чтобы придти в себя и закрыть собрание. После случившегося, обсуждать Выборгское воззвание ни у него, ни у депутатов не было никакого желания, и народные избранники молча начали расходиться.
Брачишников, а вслед за ним и Лукин, помчались на станцию и раньше думцев успели попасть на поезд. В Петербурге репортер кинулся в редакцию, а его приятель побрел на квартиру к Бреславскому.
ххх
Брачишникову хватило получаса, чтобы накатать сенсационный репортаж о явлении призраков на тайную сходку думцев в Териоках, и он с победным видом вошел в кабинет главного редактора «Петербургских вестей» Эспера Диевича Печорского. Положив на стол рукопись, журналист с силой хлопнул по ней рукой, давая понять, что эта бомба будет посильней той, что используют террористы.
Эспер Диевич, нацепив пенсне, прочитал творение своего сотрудника, аккуратно сложил листки и вернул их автору со словами: «У нас серьезная газета, и мы не можем публиковать подобные фантазии». Брачишников горячился, уверял, что все это чистейшей воды правда, предлагал спросить любого депутата разогнанной Думы из фракций кадетов или трудовиков, но главред был неумолим. Информационная бомба не взорвалась.
Вечером того же дня Печорский пожаловал в Английский клуб на Дворцовой набережной и, встретив там Павла Николаевича Милюкова, на всякий случай поинтересовался, как прошло их межпартийное собрание в Териоках. Лидер кадетов в ответ лишь пожал плечами и уверил уважаемого редактора, что никакого партийного или межпартийного собрания в Териоках не было. После этого авторитет Брачишникова в глазах его шефа упал окончательно, и наутро Эспер Диевич пригласил незадачливого репортера в свой кабинет, хорошенько отчитал его, но простил, списав его дурацкие фантазии на молодость и тщеславие.
ххх
А вот Бреславский, сидя в шелковом расписном халате в своем любимом кресле-качалке, выслушал рассказ Лукина и от души рассмеялся: «Ох, Расея ты, Расея! У тебя даже министры не министры, а летающие призраки». Саша так и не понял, поверил ему Бреславский или нет.
Следующим вечером Лукин рассказал эту историю на посиделках, устроенных его учителем Каллистратом Фалалеевичем Жаковым в своей квартире на Петербургской стороне. Этот эксцентричный литератор, изгнанный десять лет назад из Заоникиевого монастыря за то, что внушал монахом, будто Бога нет, выслушал своего ученика по Черняевским курсам вполне серьезно, даже ни разу не улыбнувшись. Гости Жакова, в основном молодые писатели и начинающие философы, также внимали рассказу Саши с нескрываемым интересом. Глотнув чаю и прожевав как следует свой любимый бутерброд с сельдью, Каллистрат Фалалеевич поведал, что у древних коми было поверье, будто каждого человека с самого рождения сопровождает невидимый двойник, которого они называли «ортом». Но незадолго до смерти «орт» обретает видимость и появляется среди родственников и знакомых этого человека. Так что теперь представился случай проверить – действует ли это поверье в наши дни или нет. Если Герценштейн и Столыпин в скором времени отправятся на тот свет, то это будет означать, что «орты» – не миф, а реальность.

Каллистрат Жаков
Гости Жакова тут же принялись вспоминать другие мистические явления последних лет, в частности, те, о которых писал в «Петербургских вестях» приятель Лукина. Всех интересовало, что означают призраки министра Плеве, якобы возникшие перед очами не знакомым друг с другом людей. Каллистрат Фалалеевич и этому ненаучному факту нашел объяснение. Во время его поездки по Японии Жакову довелось побеседовать с рикшей. К этому времени Каллистрат Фалалеевич уже немного освоил японский язык и мог общаться без переводчика. И вот этот рикша рассказал, как к нему в повозку однажды стали подсаживаться странные пассажиры, которые, не заплатив, исчезали, буквально растворялись в воздухе. В одном из таких седоков рикша узнал умершего соседа. А вскоре у них случилось землетрясение, на берег обрушился цунами, смыв множество домов. Японцы, как и некоторые другие народы, вполне обоснованно считают, что появление призраков ушедших в мир иной людей означает приближение больших бед.
И ведь в России так и случилось. После явлений призрака министра внутренних дел дела в империи пошли из рук вон плохо. Войну с Японией проиграли, в Петербурге расстреляли мирную рабочую демонстрацию, в Одессе взбунтовался броненосец «Князь Потемкин Таврический», в Москве подстрекаемые социалистами студенты и рабочие подняли вооруженное восстание.
В общем, как ни крути, а мистика и реальность каким-то неведомым образом взаимосвязаны.
ххх
Лукин и Брачишников не знали, что делать с обрушившимися на них сведениями. Журналист очень хотел все это опубликовать, но его уже поднял на смех Эспер Печорский. Поверят ли ему в других изданиях? Саша на правах друга готов был подтвердить правоту Брачишникова и дополнить его еще не написанную статью соображениями литератора Жакова, но сильно сомневался, не окажет ли он медвежью услугу. Скорее всего, их объявят сумасшедшими и, чего доброго, отправят на Пряжку[viii].
После некоторых раздумий репортеру пришла в голову идея:
– Вот что, Сашка, мы должны немедленно отправиться в Териоки на дачу Герценштейна. Профессор – славный человек, хотя и еврей.
– Можно подумать, все остальные евреи – не славные люди, – огрызнулся Лукин, до сих пор считавший, что евреев не любит лишь жалкая чернь, к которой он, разумеется, себя не относил.
– А-а, не жалую я жидов, – отмахнулся Брачищников. – Препротивное племя. Хотят нам, русским людям, навязать свой бредовый социализм. Поэтому и террор организуют. Но к Герценштейну это не относится. Он православный и в Думе защищал русских крестьян.
Лукин хотел было объяснить полуграмотному журналюге, что создатели русского социализма Лавров и Ткачев[ix] никаким боком не евреи, как и террористы вроде Халтурина и Каляева[x], но решил отложить это на потом. А сейчас он согласился поехать к Герценштейну в надежде узнать что-нибудь такое, что может пригодиться Бреславскому, собравшемуся баллотироваться во Вторую Госдуму.
В вагоне дачного поезда Брачишников заприметил группу мужчин, среди которых выделились двое. Один, в отличие от сотоварищей, одет был с иголочки – темный сюртук, галстук и неизменная шляпа. Костюмчик другого был попроще, но его глаза были скрыты от чужих взоров дымчатыми очками. Репортер тут же подошел к ним, поздоровался со всеми за руки и заговорил с тем, кто был в сюртуке. За грохотом поездных колес Лукин, сидевший неподалеку, не слышал, о чем они говорили, но до слуха доносилось несколько раз произнесенное слово «жиды».
Поговорив минут пять, Брачишников кивнул человеку в сюртуке, снова пожал всем руки и сел на скамью рядом с Лукиным.
– Ты знаешь с кем я разговаривал? – хвастливо спросил репортер. – Это Николай Максимович Юскевич-Красковский из Союза русского народа. В прошлом году его вместе соратниками принимал у себя сам государь-император. О-о, Юскевич-Красковский далеко пойдет! А меня, кстати, он пообещал устроить в газету «Маяк», если из «Петербургских вестей» погонят. Так что я не пропаду.
Саша промолчал, поморщившись внутри себя. Как Брачишников не любил евреев, так и Лукин не переваривал черносотенцев.
В Териоки приятели прибыли под вечер, когда июльская жара сдала свои позиции, и мирным дачным поселком овладел свежий ветер, дувший с Финского залива, и вскоре оказались рядом с невзрачным одноэтажным домом, в котором, по словам Брачишникова, живет профессор Герценштейн. Репортер несколько раз постучал в стеклянную дверь, однако никто не отозвался. Лукин предположил, что хозяин дома, скорее всего, гуляет – грех не воспользоваться чудесной погодой. Брачишников с ним согласился, и приятели отправились на берег Финского залива. А где еще гулять в такое время дачникам?
Так оно и оказалось. С морского берега приятели увидели, как по мосткам вдоль ограды шествовало небольшое семейство. Впереди шла полноватая дама с зонтиком, хотя солнце давно уже не светило на полную мощь, а за ней следовали Герценщтейн и худенькая девушка лет семнадцати, видимо, дочь. Заметившие профессора приятели находились на середине пляжа, направились было к нему, но неожиданно остановились, услышав громкий топот чьих-то ног по деревянной мостовой. Сзади к семейству подбегал маленький коротко стриженный человек. Позади него стоял и наблюдал за событиями мужчина в дымчатых очках. Лукин узнал в них тех, что стояли в вагоне дачного поезда в окружении Юскевича-Красковского.
Бегущий человечек остановился примерно в десяти метрах от профессора, вытащил из кармана револьвер, подбежал ближе, прицелился обеими руками и дважды выстрелил. Герценщтейн негромко вскрикнул, сделал вперед два неловких шага и упал. Девушка ухватилась ладонью левой руки за правое предплечье, куда, по всей видимости, угодила пуля, и беспомощно оглянулась в поисках защиты. Полноватая женщина, размахивая зонтиком, бросилась вслед за стрелявшим, однако тот подбежал к человеку в дымчатых очках, они оба лихо перемахнули через ограду и скрылись в лесу. Тогда женщина вернулась к лежащему супругу и громко закричала:
– За что?! За что?! За что его убили? Он же никогда никому ничего плохого не сделал!
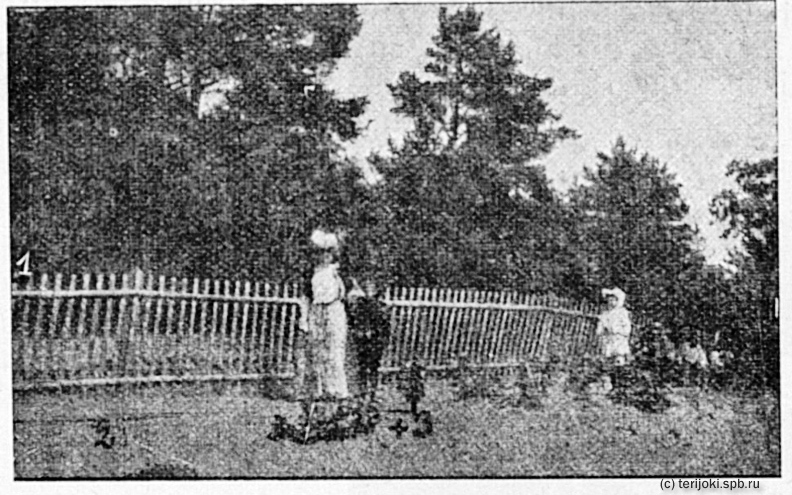
Место, где был убит Герценштейн
Со всех сторон к месту убийства подходили люди, закрывая своими спинами убитого профессора. Лукин и Брачишников стояли как вкопанные, переживая шоковое состояние. Первым очнулся репортер.
– Второй раз на моих глазах убивают человека, – выдавил он из себя.
– Да вот, – отозвался Лукин. – Не только социалисты убивают людей. Черносотенцы тоже… Надо бы сообщить в полицию. Мы же знаем, кто это устроил.
– Не надо, я обещал Николаю Максимовичу никому не говорить, что он тоже был здесь.
Сашу это покоробило: выходит одним можно убивать, а другим нельзя, но он опять промолчал, лишь горестно вздохнул и отправился прочь от дьявольского места. Брачишников пошел вслед за приятелем. Навстречу им попался бегущий городовой вместе с неким мужчиной к большой панаме. Он что-то на ходу пробовал рассказать полицейскому, но тот почти не слушал, а несся вперед, придерживая рукой шашку. Лукина это немного успокоило: может быть убийцу все-таки найдут и накажут, а тот выдаст этого злосчастного Юскевича-Красковского.
ххх
Поздним вечером уже на перроне Финляндского вокзала Брачишников приметил одинокого мальчишку, продающего выходящим из поездов пассажирам нераспроданные остатки газет. До слуха сквозь тревожные гудки поездов донеслось: «Убийство бывшего депутата Госдумы Герценштейна!». Репортер был ошеломлен. Кто из его коллег умудрился так оперативно передать сенсационную новость и тут же опубликовать ее? В мгновении ока он оказался рядом с мальчишкой, сунул ему в правую руку двухкопеечную монету и буквально вырвал один экземпляр газеты из его левой руки. Это оказался «Маяк». То самое издание, куда Брачишников намеревался податься, если не удастся удержаться на плаву в «Петербургских вестях». При тусклом свете газового фонаря журналист разглядел заголовок на первой полосе: «Герценштейн убит».
Быстрым шагом, так что Лукин не сразу смог его догнать, репортер почти побежал в сторону зала ожидания. Там приятели уселись на скамью, и Брачишников с жадностью принялся изучать передовицу. Никаких подробностей убийства газета не сообщала, зато на четвертой странице под заголовком «Одним жидом меньше» шло разъяснение, зачем нужно было убивать Герценштейна: «Лучше отрезать один зараженный член, нежели дать заразиться всему организму. А наша Россия немедленно, но постепенно заражается тлетворным заболеванием жидовской революции».
Брачишников тут же бросил взгляд на выходные данные и с удивлением обнаружил, что номер был сдан в печать в 16.00 часов. То есть за четыре часа до преступления. Еще один невероятный факт! Но вчитавшись в передовицу, он понял, как получилось это «чудо». Оказывается, прошел слух, будто убит Герценштейн. И автор заметки очень бы желал, чтобы этот слух оказался верным.
Лукин с правого боку тоже прочитал заметку на первой странице и статью на четвертой. И с раздражением произнес:
– Это сволочи запланировали убийство, оповестили о нем читателей, а затем и совершили его. Боже, боже! Куда мы катимся?
На этот раз внутри себя поморщился Брачишников. Ему было неприятно осознавать, что в Союз русского народа затесались террористы.
Приятели немного помолчали, каждый думал о своем, а затем заговорил Лукин:
– И вот еще что! Все эти призраки, орты… В них, конечно, можно и не верить, но ведь все сбывается. Все напасти случились. Сегодня убили Герценштейна, значит, завтра убьют Столыпина. Его надо как-то предупредить.
Идея спасти жизнь премьера Брачишникову понравилась. Это ли не способ реабилитировать себя в глазах редактора Печорского и приобрести славу спасителя Отечества? Но возникли сомнения, которыми он тут же поделился с приятелем:
– Сашок, ты правильно мыслишь. Вот только две проблемки возникают. Первая из них – как нам встретиться с господним Столыпиным. Он же очень большой человек. Я уже пытался взять у него интервью, но он вечно занят. А вторая – поверит ли нам Столыпин. Эспер Диевич не поверил…
Лукин вновь тяжело вздохнул:
– Я поговорю с Бреславским. Может он подскажет что-нибудь дельное.
– А вот этого не надо, – возразил честолюбивый репортер, не желающий делить славу спасителя с депутатом разогнанной Думы. Тем более, что его только что осенила идея. – Я знаю, как мы попадем к Столыпину. Очень просто. Мы запишемся к нему на прием. Мне уже предлагали это сделать, но я чего-то заартачился. Петр Аркадиевич принимает людей по субботам у себя на даче. А дача, если я не ошибаюсь, находится на Аптекарском острове. Найдем без труда. А над аргументами подумаем.
Лукин согласился с приятелем. Он прав: зачем примешивать к этому делу Бреславского? Он ведь плохо относится к новому премьеру. К тому же пора взрослеть и уходить от опеки Станислава Осиповича. Действительно, лучше мы вдвоем придем к Столыпину на Аптекарский остров и отведем, пока не знаю, каким образом, от него смерть. И неважно, от кого она будет исходить – черносотенцев или социалистов.
Смерть на Аптекарском острове
Примерно в половине четвертого к большой деревянной даче, принадлежащей премьер-министру Столыпину, подкатило ландо[xi], запряженное двумя светло-соловыми лошадьми. С пассажирских сидений соскочили четыре человека с большими портфелями. И хотя двое из них были одеты в жандармские мундиры, к полиции они имели лишь то отношение, что она их нещадно преследовала, поскольку вся четверка принадлежала к социалистам-революционерам из отделившейся от всей партии группы максималистов.

Петр Столыпин
Они были молоды и нетерпеливы. И им было за что ненавидеть царского любимчика, в железных руках которого оказалось министерство внутренних дел и все правительство необъятной империи. Совсем недавно, будучи саратовским губернатором, Столыпин жестко подавлял любые крестьянские выступления. А сейчас он вознамерился решить земельный вопрос в самом антисоциалистическом духе – разрушить крестьянский мiръ, уничтожить самый прямой путь к крестьянскому социализму. Чтобы этого не произошло, будет уничтожен он сам.
Впереди в залихватской жандармской офицерской каске с серебряным двуглавым орлом шагал Илья Забельшанский по кличке «француз». «Французом» он стал не по своей воле. В родном Гомеле Илья создал Союз щетинщиков и организовал стачку с требованием восьмичасового рабочего дня. Полиция начала охоту за ним, а потому пришлось скрываться во Франции. Рядом в такой же форме следовал Никита Иванов, только в марте этого года вышедший из брянской тюрьмы. Чуть поотстал от них Иван Типунков, которого за малый рост друзья называли «Ваня Маленький». В прошлом году в Екатеринославле в перестрелке с полицией он был ранен в живот и запястье правой руки. Во время подготовки операции Михаил Соколов, тот самый «Медведь», спросил его о здоровье. «Ваня Маленький» ответил точно и незамысловато: «Все хорошо. Врачи живот подштопали, а вот рука пока действует плохо, но бомбу бросить могу. Левой же я неплохо стреляю».
Замыкал шествие, возвышаясь своим ростом над всеми, Федор Зиедонис. Он крепко сжимал в правой руке новенький черный портфель. Это бы главный портфель из всех четырех.
Другие портфели содержали в себе бомбы, изготовленные в мастерской социал-демократа Тер-Петросяна по кличке «Камо». Каждой из них можно запросто убить премьера, если бросить ему прямо под ноги. Но инициатор и руководитель этой смертельной затеи Соколов понимал, что возможны непредсказуемые затруднения. И Зиедонис предложил воспользоваться услугами Календера, чья бомба разорвала на части господина фон Плеве. Поскольку Федор Моисеевич ручался головой, что Календер давно сотрудничает с революционерами и никак не связан с царской охранкой, «Медведь» согласился. Только Зиедонис поставил одно условие: эту бомбу взорвет лично он.
Сегодняшний день станет последним в жизни Зиедониса. Но умрет он не напрасно. Недавно черносотенцы убили профессора Герценштейна. Убили только лишь за то, что он еврей. И это преступление, при попустительстве Столыпина, сошло им с рук. Мерзавцы скрылись, а ловить их, судя по всему, никто не собирается. Что ж, за смерть Герценштейна расплатится сам Столыпин. Жаль, что не царь, но Столыпин – второй человек в государстве помещиков и жандармов. И смерть к нему явится в жандармской форме.
Выскочив из ландо, вся четверка неспешным шагом направилась к подъезду, где дорогу им преградил швейцар.
– Мы к Столыпину, нам срочно, – бросил Забельшанский, отталкивая швейцара, но тот оказался сильным субъектом – сумел собой перекрыть вход в дачу и позвать на помощь охранника.
Из-за спины портье показался крепко сбитый человек в форме генерала.
– Господа, Петр Аркадьевич больше никого принять сегодня не сможет, – твердым голосом произнес генерал.
– Я же сказал: нам надо срочно! – выкрикнул «француз», пытаясь растолкать обоих стражей порядка.
– Это не жандармы, у них каски старого образца! – прокричал, неизвестно к кому обращаясь, генерал.
Террористы, поняв, что акция может сорваться, вчетвером ввалились в подъезд, сбили с ног швейцара и оказались в приемной премьер-министра. И тут Зиедонис с ужасом понял, что бомбу в его черном лакированном портфеле взрывать ни в коем случае нельзя. В «предбаннике» сидели полтора десятка мужчин и женщин, явившихся на прием к Столыпину. Однако она сдетонирует от взрыва других бомб. И как он об этом раньше не подумал! Конечно, жаль, что его личная месть не удалась, но гибнуть ни в чем неповинным людям не следует.
Чтобы избавиться от адской машины, Зиедонис кинулся к окну, возле которого сидели два молодых человека. Никита Иванов и «Ваня Маленький» решили, что их товарищ испугался и собрался сбежать, и кинулись к Федору-Абраму. Один ухватил его сзади за плечи, другой вырвал из его рук несущий смерть черный портфель.
Последнее, что увидел, оглянувшись, Зиедонис, это страх на лицах незнакомых женщин, генерала и трех офицеров, перегородивших дверь в кабинет премьера, своих товарищей, бросающих портфели в сторону этой двери, и услышал сквозь визг и вопли ужаса крики: «Да здравствует революция!», «За свободу!», «Долой монархию!». Затем последовал чудовищный грохот. Зиедонис понял, что он куда-то летит, и в этот миг его сознание отключилось.
Дача Столыпина на Аптекарском острове после взрыва
ххх
Чужую смерть Федор-Абрам ощущал по запаху и вкусу. Гибель самых близких ему людей была горькой и пахла смесью карболки, спирта и душистых трав в разгромленной кишиневской аптеке на улице Армянской. Воображаемый конец тех, кого он собирался убить, был сладок на вкус и пах сиренью. Про смерть невинных людей, как и самого себя, он просто не думал.
Когда сознание к нему вернулось, в нос ударил запах сырости, а во рту язык ощущал нечто вроде мяты. Что бы это значило? Так пахнет тот свет или он не умер? Зиедонис не верил в бессмертие души. Значит, либо он в своем неверии был не прав, либо …смерть каким-то чудесным образом обошла его стороной.
Он открыл глаза и обнаружил, что находится в полутемном помещении с очень низким потолком. Попытался вспомнить, что произошло в последние мгновения его жизни, и пришел к выводу, что живым из той передряги он выбраться не мог. Однако ад или рай, если таковые существуют, не могли быть такими, какими он сейчас их видел и ощущал. А если он все-таки выжил, то тело должно быть в сплошных ожогах, ранах и ссадинах. Все сомнения развеяли два матово белесых глаза, появившиеся над его лицом. Зиедонису все стало ясно, как Божий день.
– Товарищ Календер, это вы меня спасли с помощью вашего волшебного изумруда? – пробормотал Федор-Абрам.
– Ну, а кто же еще, любезный Федор Моисеевич? – ответил белоглазый человечек.
– А мои товарищи?
– Они сами взорвали себя, а потому я не счел нужным их спасать.
Зиедонис вспомнил женский визг и крики ужаса в приемной Столыпина.
– Много людей погибло?
– Да десятка два будет, если не больше.
– А Столыпин?
– Вот он – жив и целехонек.
– Зачем же вы тогда меня спасли? – простонал Зиедонис. – Мне моя жизнь ни к чему.
– Вам может и ни к чему, зато мне необходима. Я ведь поклялся самому себе, что за каждую жизнь, отнятую при моем участии, я должен кого-нибудь спасти, – пояснил Календер. – И теперь мне предстоит уберечь от смерти очень многих людей.
– Вы спасли самого недостойного.
– Это не вам, любезный, судить. Тем более, что сам великий Омоль послал вас прямо ко мне в руки.
Зиедонис пропустил мимо ушей слова про некоего «великого Омоля», но поинтересовался, как Календер сумел притащить его полумертвое тело до этой землянки и где они находятся. Видимо, на том же Аптекарском острове.
– Это не совсем землянка, скорее, подземлянка, – улыбнулся в ответ Дмитрий Александрович. – Находится она довольно-таки далеко от Аптекарского острова. А тащить вас много и не пришлось. Вы же сами оставили возле дома на этом острове чудесную колясочку. Кучера пришлось временно нейтрализовать, а вас, как живого седока, я пристроил на сидении. И, кстати, не только вас, но и вот этих молодых людей.
Календер помог Зиедонису приподняться и усадил его на лежаке. Света стало поболее, и Федор-Абрам увидел, что рядом на жестких топчанах лежат два человека лет двадцати пяти. И вроде бы они оба находились в момент взрыва рядом с Зиедонисом – у окна.
– Я тут уже кое-что про них узнал, – продолжал Календер. – И разговорчик их в приемной подслушал. Вот ведь странность какая: они пришли к господину Столыпину, чтобы его спасти. Вы же явились, чтобы его прикончить. А я почему-то полюбил всех вас троих. Вот этому я второй раз жизнь спасаю. Его зовут Лукин Александр Георгиевич. Он пока учится на вечерних курсах. Его товарищ – заметный журналист Николай Борисович Брачишников. Занятные статейки, знаете ли, писал. Про гибель господина Плеве, которая, каюсь, тоже произошла с моей непосредственной помощью. И про то, как призрак убиенного Плеве приходил к людям.
Тут Календер замолчал, чтобы не взболтнуть лишнего про Маркуса, устроившего весь этот маскарад. Причем этого лицедейства соратнику Никодимуса показалось мало. Решил он перед возвращением в родную Уламколу продолжить представление. Узнал от Календера, что Герценштейн и Столыпин будут в скором времени убиты, заявился в их образах к депутатам отрешенной Думы. Да еще устроил цирк в духе Гудини. Когда-то он признался Никодимусу-Календеру, что видел выступление этого фокусника в Москве и больно его трюки Маркусу понравились. Он даже сумел их разгадать и повторить.
– Вот так вот, любезный Зиедонис, – прервал, наконец, молчание Дмитрий Александрович и вновь указал на лежащих молодых людей. – Я этих голубчиков сейчас приведу в себя, познакомлю с вами. И, надеюсь, вы подружитесь.
Тут Календер опять замолчал, посмотрел в глаза Федору-Абраму и произнес:
– Вот еще что! Не надо вам, Федор Моисеевич, больше терроризмом заниматься. Не получается из вас убивец. Поверьте мне, вам следует поступить на те же курсы, где учится Лукин, а потом прямым ходом в университет. Станете большим и образованным адвокатом, и принесете много больше пользы и несчастной России и своему, не менее несчастному народу. Полиция про вас ничего не знает, а для своих товарищей вы геройски погибли.
Зиедонис слушал советы Календера одним ухом, думая о чем-то совершенно другом. Казалось, что он совершенно не заботится о своей дальнейшей жизни, случившейся после короткой смерти. Мысли роились вокруг чего-то более глобального, и неожиданно Федор-Абрам изрек:
– Дмитрий Александрович, я знаю, кто вы на самом деле.
– Ну-тес, любопытно будет узнать, – прервал свои размышления Календер, и впился своими белесыми глазами в Зиедониса.
– Ваше настоящее имя – Никодимус. Вы из подземной страны, которую вы сами, ее жители, называете Уламколой. Вас отправили во внешний мир с какими-то важными целями. Пока точно не знаю, с какими именно. Нас вы называете «оламами», и что-то вам от нас надо.
– Продолжайте, любезный Зиедонис, – попросил Никодимус, не отводя глаз от спасенного им человека.
Федор-Абрам чувствовал, как взгляд Никодимуса проникает в самую глубь его души. Однако работала и обратная связь. Зиедонис понимал, что и он сам пробирается сквозь тайники внутреннего мира этого странного человека.
– И, если я вас правильно понимаю, вы считаете, что вот эти ребята, что лежат здесь, что-то тоже про вас знают. Хотя с вами они вовсе и незнакомы.
– Вы меня правильно понимаете, Федор Моисеевич, – Никодимус, наконец, отвел взгляд, давая не столько себе, сколько Зиедонису отдохнуть. – Мы с вами, господин Зиедонис, а также Лукин и Брачишников отныне представляем из себя то, что на нашем языке называется кэртас. На вашем языке – это что-то вроде пучка. Мы теперь связаны невидимыми нитями, и у нас общие цели. О них мы еще с вами поговорим. А вот чтобы войти в кэртас, вам пришлось умереть. Ненадолго.
Продолжение следует
[i] Речь идет об автобиографическом романе Питирима Сорокина «A Long Journey» , изданном в 1963 году в США. На русском языке он выходил с названиями «Долгий путь», «Дальняя дорога» и «Дальнее путешествие».
[ii] Кишиневский погром 1903 года был спровоцирован слухами о якобы ритуальном убийстве евреями в городе Дубоссары четырнадцатилетнего подростка Михаила Рыбаченко. Позже убийца был найден. Им оказался родной дядя мальчика, желавший получить его наследство.
[iii] Татаров Н.Ю. (1877-1906 гг.) – журналист, член ЦК партии социалистов-революционеров, агент охранного отделения. Убит эсером-боевиком Ф.А.Назаровым в своей квартире в Варшаве в присутствии родителей.
[iv] Бурцев В.Л. (1862-1942 гг.) – русский публицист и издатель, заслуживший за свои разоблачения секретных сотрудников Департамента полиции прозвище «Шерлока Холмса русской революции».
[v] Соколов М.И. (псевдонимы и клички «Анатолий», «Пётр Васильевич», «Каин», «Медведь», 1880-1906 гг.) – один из создателей и лидеров «Союза социалистов-революционеров-максималистов», выделившегося из партии эсеров. Считал необходимым продолжить тактику террора.
[vi] Войпель – в коми мифологии бог северного ветра.
[vii] Кабала – у древних коми специальная грамота на бересте, которую посылали нечистой силе. В данном случае – обычное послание.
[viii] Пряжкой петербуржцы называли Психиатрическую больницу Святого Николая Чудотворца, расположенную на реке Пряжке.
[ix] Лавров П.Л. (1823-1900 гг.) – русский философ, революционер, один из идеологов народничества. Ткачев П.Н. (1844-1886 гг.) – русский литературный критик, революционера, идеолог радикального направления в народничестве.
[x] Халтурин С.Н. (1857-1882 гг.) – русский революционер, устроивший покушение на Александра II в Зимнем дворце в 1880 году.
Каляев И.П. (1877-1905 гг.) – член боевой организации партии социалистов-революционеров, убивший Великого князя Сергей Александровича.
[xi] Ландо – легкая четырехместная повозка со складывающейся вперед и назад крышей.
* * *



 EN
EN Старый сайт
Старый сайт
 Михальска Стася
Михальска Стася  Буторин Николай
Буторин Николай  Тубольцев Юрий
Тубольцев Юрий  Андерс Валерия
Андерс Валерия 


